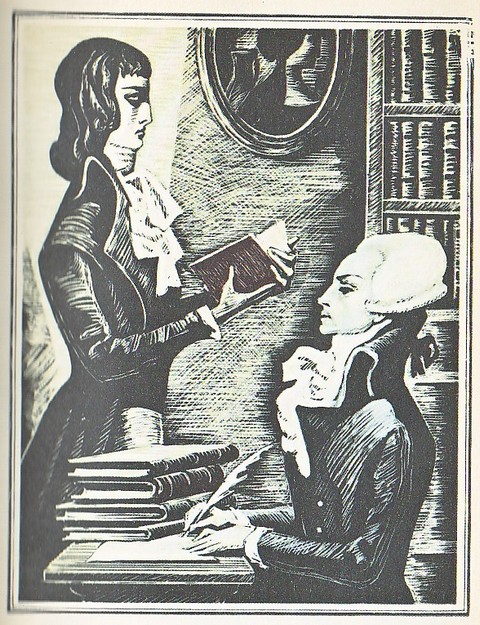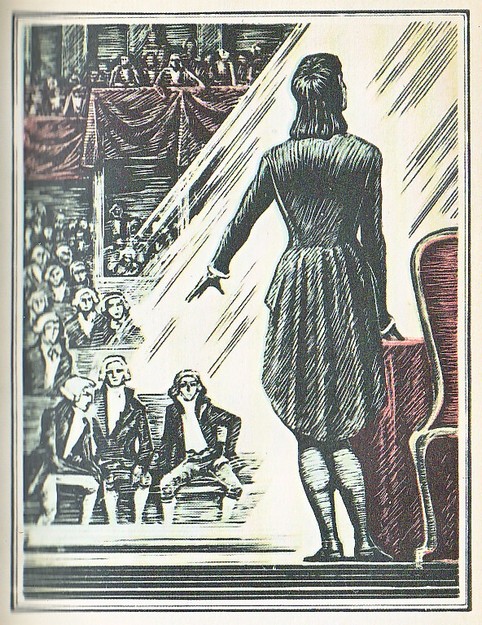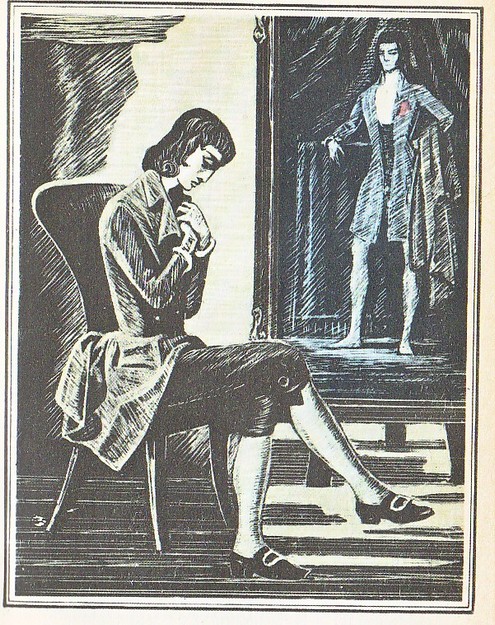АНАТОЛИЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ
КАВАЛЕР СЕН-ЖЮСТ
Повесть о великом французском революционере
1


Он не стал задерживаться у Якобинцев. Едва Колло, с трудом протиснувшийся к трибуне, возвысил голос, а вокруг, словно по команде, начались шиканье и свист, он встал и вышел: жаль было драгоценного времени. Он не верил, чтобы происшедшее в Клубе могло изменить ситуацию; все шло из рук вон плохо. Сколько ошибок за такой короткий срок! И даже за сегодняшний день. Эта речь Неподкупного… И эта угроза, повисшая словно нож гильотины. Она вызвала страх, а где страх, там и предательство, тем более что каждый чувствует свою вину…
Молодой человек ускорил шаг. Нет, он не собирался пасовать. Теперь, когда враг разбит, когда успокоена Вандея и сброшена со счетов парламентская контрреволюция, было бы слишком глупо потерять все из-за нескольких неточных ходов. Что испорчено речью, речью же можно и поправить. Он произнесет ее завтра утром в Конвенте. Он реабилитирует Неподкупного, рассеет страхи, предложит оправдаться виновным — а их будет названо совсем немного — и успокоит всех. Довольно заговоров и крови. Революция должна остаться незапятнанной! Сила патриотов — в единстве, и это единство будет достигнуто.
На Карусельной площади было темно, и Дворец равенства выделялся на фоне сизого неба черным силуэтом. Юноша обогнул павильон Флоры и по бывшей лестнице королевы поднялся на второй этаж. Часы пробили одиннадцать. Кругом было мрачно и безлюдно. Пройдя коридор, он толкнул дверь и очутился в большом зале с колоннами. Здесь заседал великий Комитет общественного спасения — святая святых правительства.
Центральную часть зала занимал большой стол, покрытый зеленым сукном. Три бронзовых канделябра едва освещали его поверхность. Люстры были погашены: члены правительства берегли свечи. Поодаль стояли меньшие столы и раскладная кровать; на ней неподвижно лежал человек, уткнувшийся головой в подушку. Кроме него в комнате было пятеро; четверо сидели за большим столом, пятый прохаживался и что-то жевал. Молодой человек сухо поздоровался, сел к отдельному столу и принялся за работу. Слонявшийся по комнате внезапно остановился, подозрительно посмотрел на пишущего и спросил:
— Послушай, Сен-Жюст, ты по какому поводу мараешь бумагу?
Следивший за ним черноволосый и смуглый прибавил:
— Ленде прав. Поведай-ка, что ты так углубленно сочиняешь?
Сен-Жюст поднял глаза.
— Я сочиняю речь, Барер, которую завтра прочту в Конвенте.
— Речь? — удивился сосед Барера. — Это вместо предложенного тебе доклада? И на какой предмет, хотелось бы знать?
— На предмет установления мира и согласия в Комитете, Карно. На предмет успокоения всех вас, дорогие коллеги.
— Так мы тебе и поверили, — хихикнул Барер. — И ты можешь поклясться, что это не новое обвинение? Что ты не подыгрываешь Пизистрату,
[1] желающему всех нас отправить на гильотину?
При слове «Пизистрат» лежавший на кровати вздрогнул.
— Клясться ни в чем не собираюсь, — буркнул Сен-Жюст, не отрываясь от дела. — Но если желаете, готов прочесть вам речь до вынесения ее в Конвент.
Члены Комитета переглянулись.
— Это другой разговор, — пробасил Ленде и снова взялся за черствую корку.
Опять все стихло.
Он писал и писал. Мысли лились сплошным потоком, и перо едва поспевало за ними. Около полуночи были готовы восемнадцать страниц, и, отправив их к Тюилье для переписки набело, Сен-Жюст двинулся дальше. Но вдруг дверь распахнулась, и появился Колло д’Эрбуа, ободранный и грязный; он возвращался из Клуба.
Окинув вошедшего насмешливым взглядом, Сен-Жюст спросил:
— Что нового у Якобинцев?
На момент Колло застыл от изумления. Затем, точно бык, раздразненный мулетой, с ревом бросился на молодого человека:
— Ты меня спрашиваешь об этом, ты?.. О, подлец, проклятый лицемер, кладезь остроумных изречений!..
Сен-Жюст успел вскочить и схватил Колло за руки. Тот вырывался и орал, словно бешеный.
Человек, лежавший на кровати, неожиданно поднял голову. Это оказался Бийо-Варенн, раньше Колло ушедший от Якобинцев. Правый глаз Бийо совершенно заплыл.
— Колло, что ты церемонишься с этим мерзавцем, — прохрипел Бийо. — Дай ему так, чтобы его скрючило!..
Но остальные решили, что пора вмешаться. Ленде первым бросился разнимать. Ему помогли Карно и Приер. Бийо снова уткнулся в подушку. Дерущихся растащили в разные стороны.
Колло плюхнулся на стул.
— Вы негодяи, — вопил он, — ты, твой хозяин и ваш безногий выродок! Вы хотите погубить родину, но ваши козни раскрыты!..
Хитрый Барер старался его успокоить.
— Ты прав, коллега, — сказал он и, обращаясь к Сен-Жюсту, добавил: — Я знаю, вы хотели бы разделить республику между ребенком, уродом и чудовищем. Я лично не допустил бы вас управлять даже птичником!
Сен-Жюст уже снова невозмутимо писал.
Колло не мог успокоиться. Он долго смотрел на своего врага, потом, видя, что тот не обращает на это внимания, прорычал:
— Ты вечно шпионишь за нами! Я уверен, что и сегодня твои карманы набиты доносами!
Не говоря ни слова, Сен-Жюст выложил на стол содержимое своих карманов и продолжал писать. Его оставили в покое.
Около часу пришел Лекуантр. Он предложил арестовать начальника национальной гвардии и мэра. Сен-Жюст, оторвавшись от бумаги, резко возразил. Завязался спор…
…В пять утра, сложив исписанные листы, он поднялся.
— Стой! — крикнул Барер, — Ты обещал прочитать свою мазню!
— Для этого моя мазня должна быть переписана, — произнес Сен-Жюст. Однако про себя он отменил первоначальное решение: возмущенный увиденным и услышанным, он отказался от мысли читать речь в Комитете и решил нести ее сразу в Конвент.
Передав оставшиеся листы курьеру с приказом немедленно доставить их Тюилье, он вышел на улицу. Очарование ясного летнего утра захватило его. Ночью прошел дождь; плиты мостовой были мокрыми, ограда парка блестела от влаги, а небо казалось ослепительно чистым, и утреннее солнце ярко золотило верхушки деревьев, превращая капли на листьях в сверкающие алмазы. Все заботы вдруг спали с души Сен-Жюста. Он обогнул дворец и направился к правительственным конюшням…
…Он любил этого коня и всегда брал его; Верный был быстр и чуток, хорошо знал седока и беспрекословно повиновался каждому его слову и жесту. Улицы были безлюдны. Сен-Жюст пустил коня галопом. Ветер свистел в ушах, мимо проносились дома, деревья. Наконец показался Булонский лес…
…Он бездумно скакал по аллеям, никого не встречая на пути, кроме редких молочниц или ночных сторожей. Сердце билось ровно, он глубоко дышал, вбирая утренний аромат природы, и наслаждался жизнью. Мелькнула мысль: бросить бы все, оставить проклятую политику, уехать в глушь, в деревню… Сен-Жюст беззвучно рассмеялся. И придет же такое. Ну куда, куда они могут уехать, кроме могилы?..
Те неполные четыре часа, что оставались до начала утреннего заседания, он решил посвятить сну. Спал точно убитый, и, если бы хозяйка не разбудила ровно в десять, он опоздал бы.
За кофе, чуть покраснев, Полина сказала:
— Гражданин, а портрет-то готов. Хотите взглянуть?
— И вы еще спрашиваете!
Молодая женщина ушла и вернулась с картоном, закрытым полотном. Поставив картон на стул, она сдернула покрывало.
Сен-Жюст впился глазами в портрет. Он сразу понял, что художница вложила в свое произведение не только талант, но и нечто большее — частицу самой себя. Его изумила способность подлинного искусства проникать в сферу весьма сокровенную.
Это была пастель, выполненная с тщательностью, достойной века Буше и Фрагонара. Юный депутат Конвента, изображенный во весь рост, стоял в несколько напряженной позе, опершись рукой о край стола. На нем был костюм модного покроя. Небесно-голубой с золотыми пуговицами камзол распахнулся на груди. В петлице жилета ярким пятном алела гвоздика. Высокий батистовый галстук, закрывая шею, доходил до подбородка. Голова, напоминающая скульптурный портрет Антиноя, была гордо откинута назад; длинные, чуть вьющиеся волосы темными волнами спадали на воротник камзола. Совершенно необычным и не соответствующим всему остальному казалось выражение лица — именно это и потрясло Сен-Жюста. Большие синие глаза подернула пелена глубокой грусти; правый угол рта был чуть приподнят, создавая подобие улыбки, по улыбки меланхолической, горькой: юноша словно сожалел о том порочном мире, который ему надлежало очистить от скверны, и о самом себе, взвалившем на свои слабые плечи столь непомерный груз…
Странные и сложные мысли обуревали Сен-Жюста.
Художница необыкновенно верно схватила главное: изысканность в костюме, триумф в осанке и… грусть в глазах. «Кавалер Сен-Жюст» — так ведь они называли его, болтая друг с другом, он хорошо знал это. Ему не могли простить, что он был не таким, как они, не носил красного колпака на сальной взъерошенной шевелюре, не облачался в рвань, не щеголял обнаженной грудью — словом, не льстил улице, не подмазывался к ней фальшивым санкюлотизмом… «Кавалер Сен-Жюст» — ловко же придумал этот бездельник Демулен!.. Кавалер, аристократ, щеголь, дамский угодник… Но они забыли, что слово «кавалер» имеет и другой смысл. Они забыли, что это еще и «рыцарь». А ведь он от начала до конца, до самого конца, был, есть и останется рыцарем идеи, рыцарем революции, рыцарем без страха и упрека… Где уж им это понять! Они зубоскалили, надрывались от смеха, тайно указывали на него пальцем, и веселье их иссякало лишь тогда, когда он начинал говорить, — тут они вдруг мрачнели и бледнели… Они называли его «ангелом смерти». Они боялись его, боялись именно потому, что он был без страха и упрека, а их слишком во многом можно было упрекнуть. И никто не понял, что его строгость и суровость явились не ради смерти, но во имя жизни, что не меч он принес им, а пальмовую ветвь мира…
…Чем пристальнее вглядывался Сен-Жюст в свой образ на портрете, тем отчетливее ощущал какую-то странную расслабленность. Ему начинало казаться, что портрет вне зависимости от воли, его сотворившей, — пророчество, предсказывающее крах его надежд, полное и окончательное поражение. И зачем, спрашивается, она показала портрет именно сейчас?.. С трудом оторвав взгляд от портрета, молодой человек посмотрел на художницу.
Она ждала этого.
— Вам нравится?..
— Вы мне польстили, Полина, — Сен-Жюст пожал ей руку и улыбнулся. — Но сейчас я должен идти, о портрете поговорим сегодня вечером.
Он произнес эти слова и тут же подумал: а будет ли у него этот вечер? И увидит ли он еще раз ее и портрет?..
Едва Сен-Жюст переступил порог большого зала Конвента, как председатель трижды взмахнул колокольчиком, и заседание началось. Зал выглядел полупустым; депутаты, о чем-то перешептываясь, продолжали входить и занимали свои обычные места.
Он понял, что все кончено, раньше, чем начал говорить. Понял, едва лишь, поднимаясь на трибуну, окинул взглядом зал. Собственно, он и прежде не строил иллюзий, но такой остроты восприятия, как в эту минуту, не было и быть не могло: они больше ничего не скрывали, словно будучи уверены, что жертвы от них не уйдут. Какие лица! Так, вероятно, выглядели зрители, пришедшие на бой гладиаторов. Глаза сверкают злобной радостью. И уверенностью. Полной уверенностью! Когда успели они сговориться? Как он проморгал этот сговор? Они не сомневаются больше, поскольку знают, что спектакль готов, режиссеры поработали до седьмого пота, артисты выучили роли назубок, статисты на местах и остается только отдернуть занавес.
Значит, сегодня. Час настал.
На миг почувствовал легкое головокружение, слабость — как тогда, перед портретом. Чуть задержался на последней ступеньке, но сразу справился с собой.
И вдруг где-то сбоку раздался громкий выкрик:
— Сен-Жюст на трибуне!..
Выкрик был удивленным, словно кричавший и не догадывался, что Сен-Жюст может оказаться на трибуне. И тотчас же появилась вся компания: Колло, Бийо, Барер и прочие. Они примчались из Комитета, где тщетно прождали его все утро с докладом. Ловко он их одурачил… Впрочем, теперь уже все равно… А вот наконец и свои. Оба Робеспьера, Леба. Они явились вместе. И тут же вкатилось кресло Кутона. Ну так. Больше ждать некого. И нечего.
Он произнес первые слова речи и похолодел: голос не повиновался ему. Но почему же? От страха? Нет, он не испытывал страха. Может быть, просто слишком шумно в зале? Он напрягает силы, собирает воедино всю волю, всю энергию. Постепенно зал успокаивается. Теперь его голос звучит почти нормально. Но от этого не легче: они не слушают — это абсолютно ясно! Он может хрипеть, или рассказывать о событиях на Луне, или просто молчать — результат будет тот же. Им нет до его речи ни малейшего дела, они чего-то ждут. Чего же?
Сен-Жюст произносит слова, слова складываются во фразы; но в словах и фразах будто нет мысли, нет никакого содержания: оратор читает механически, без веры, без подъема… Правда, это еще преамбула; может, дальше наступит перелом? Но вот и «дальше», и все то же отсутствие связи со слушателями, все то же напряженное ожидание…
…Ага… Кончено!..
…Он еще говорит, но можно бы и замолчать, ибо через момент замолчать все равно придется. Вдоль прохода мчится Тальен. Лицо его потно, глаза сверкают. Он приближается быстро и неотвратимо, сверкающие глаза становятся больше и больше и наконец закрывают все. Вот он тигром вскакивает на трибуну и громко кричит, перебивая оратора на середине фразы:
— Я требую слова к порядку заседания!
Сен-Жюст замечает метнувшийся отчаянный взгляд Робеспьера. Думает, стоит ли спорить и сопротивляться. Потом собирает листы речи и складывает руки на груди.
В течение последующих пяти часов, пока происходило все это, он стоял точно изваяние, с презрительной улыбкой на устах и отсутствующим взглядом. Со стороны могло показаться, что он впал в некое подобие летаргии, что он ничего уже больше не видит и не слышит. Но он все видел и слышал. И до самого конца оставался таким же бездеятельным и бессловесным, не приняв никакого участия в борьбе. Он находился в состоянии человека, который одолеваем кошмаром и не может сбросить его с себя.
Его не покидало ощущение, что все это уже когда-то было: и тот же беспорядок в зале, и та же нарушенная речь при бешеных враждебных выкриках… Было, конечно же было!.. И не раз… Достаточно вспомнить первое выступление Марата в Конвенте… Или день, когда жирондисты выплеснули на голову Неподкупному клевету Луве… Или… Впрочем, все это не касалось непосредственно его, да и не грозило гибелью… А еще?.. То, что его касалось?..
И тут вдруг в нем началось какое-то странное раздвоение. Происходившее в зале виделось смазанно и неясно, но одновременно перед глазами стали вспыхивать одна за другой картины прошлого. Постепенно они приобретали последовательность и почти осязаемую четкость. И первая из них, хотел он или нет, оказалась также связанной с этим залом и этой трибуной: ведь для него все начиналось здесь.
2
Все начиналось здесь…
Конечно, он мог бы заметить, что и до этого уже имел кое-что на личном счету революционера, в том числе бурную общественную деятельность, высокий чин в национальной гвардии, успех первого политического труда — «Дух французской революции и конституции», — распроданного в несколько дней… Но все это, хотя и послужившее к выдвижению его в депутаты Конвента, касалось лишь провинции, маленького городка Блеранкура, где прошли его детство и юность. И если на первых заседаниях Конвента еще никто не знал всех этих Бийо, Колло, Тальенов и Бареров, то не больше знали и его, Сен-Жюста, депутата от департамента Эна; в то время перешептывались даже, будто он принадлежал по рождению к аристократии, к ненавистному привилегированному сословию, уничтоженному революцией. И даже Робеспьер, с которым они уже были на «ты», который, казалось, во всем ему верил, спросил как-то с сомнением в голосе:
— Ты ведь, кажется, происходишь из «бывших»?
— Кто сказал это? — возмущенно воскликнул Сен-Жюст.
— Не помню, — улыбнулся Робеспьер. — Кажется, Демулен. Он, между прочим, сообщил мне, что твой отец имел орден святого Людовика — высший знак отличия аристократов — и что у вас есть родовой замок…
Опять Демулен! Всюду Демулен, этот подлый оборотень, всюду, где пахнет ложью и каверзами… Пришлось объяснять Неподкупному, что он, Сен-Жюст, происходит из крестьян, что упомянутый орден давался не только аристократам и что их «родовой замок» — всего лишь небольшая ферма, купленная отцом на сбережения целой жизни…
Да, тогда Антуана Сен-Жюста знали столь же мало, как и всех этих Бийо, Колло, Тальенов и Бареров. Тогда на революционном поле сражались другие партии и иные вожди: Гора
[2] и Жиронда,
[3] словно два утеса, нависли над Конвентом, а против признанного якобинского «триумвирата» — Марата, Робеспьера и Дантона — бились «государственные люди» — Бриссо, Верньо, Жансонне и прочие завсегдатаи салона госпожи Ролан. Что же касается его, Сен-Жюста, то на первых заседаниях Конвента он еще не определил своего места, своей партийной принадлежности; правда, он благоговел перед Маратом и уже дружил с Робеспьером, но грубый Дантон с сальной шевелюрой, перебитым носом и громовым голосом, призывавший к миру, был ему антипатичен не менее, чем утонченные Бюзо и Барбару с их аккуратными прическами и изысканной манерой обращения, апеллировавшие к войне…
Место и партийная принадлежность Сен-Жюста начали определяться как раз в этом зале и на этой трибуне, после речи по делу короля, его первой речи в Конвенте.
Процесс короля…
Как это странно звучало бы полтора-два года назад!
Сен-Жюст лично ничего не имел против Людовика XVI. Когда-то Антуану даже казалось, что он любит короля. 14 июля 1790 года на празднике Федерации он вполне искренно кричал вместе с другими: «Да здравствует король, да здравствует наш добрый король!» Что уж греха таить, когда он писал «Дух французской революции и конституции», то верил в конституционную монархию как в панацею от всех зол. И «добрый король» Людовик XVI действительно был лучше своих предшественников — себялюбивого деспота Людовика XIV и глубоко развращенного Людовика XV. Поначалу как будто все шло хорошо: король пригласил к власти министра-философа Тюрго, в голодный год открыл беднякам свои амбары, потом, уступая просьбе народа, созвал Генеральные штаты, согласился признать их Национальным Учредительным собранием и одобрил составление конституции… Да, конечно, это было бы совсем хорошо, если бы при этом не оказалось и чего-то другого; если бы не стрельба королевских гвардейцев в народ накануне взятия Бастилии, если бы не попытка контрреволюционного переворота в октябре того же 1789 года, если бы не королевские вето на прогрессивные декреты Учредительного собрания, если бы не попытка к бегству в июне 1791 года…
Попытка к бегству окончательно раскрыла глаза Сен-Жюсту. А потом — расстрел на Марсовом поле,
[4] потом — игра в жмурки с Законодательным собранием и, наконец, кровь 10 августа.
[5]
Становилось ясно, что дело не в том, хороший или плохой король Людовик XVI, а в том, что он король. «Дух французской революции и конституции» уплыл в небытие. Сен-Жюст стал республиканцем.
Он и теперь не имел ничего лично против Людовика. Ему даже было жаль этого несчастного слепца, все время плясавшего под чужую дудку и собственными руками вырывшего себе могилу.
Но коль могила вырыта — пусть ложится в нее.
Уже с осени 1792 года понеслись требования о суде над поверженным монархом. Все чаще раздавались крики: «На гильотину Капета!» Секции
[6] посылали делегатов в Коммуну и Конвент, прося ускорить национальное правосудие. На площадях и в парках бродячие актеры разыгрывали сцены процесса и казни Людовика. В Якобинский клуб шли адреса из департаментов, провозглашавшие смертный приговор низложенному королю. Людовик и как властитель, и как человек был обречен на исчезновение всем ходом истории, которого он не смог предугадать и к которому не сумел приспособиться. Как бы ни был он ныне жалок, его физическое существование представляло угрозу для освобожденной Франции. Во имя его плели сеть интриг контрреволюционные эмигранты при европейских дворах. Во имя его ушедшее в подполье дворянство и не присягнувшее конституции духовенство поднимало провинции. Во имя его полчища интервентов рвались к Парижу. Так разве, зная это, можно оставаться снисходительным к узнику Тампля? Разве, если все бросить на чаши весов истории, не перетянет кажущаяся жестокость, обрекающая на смерть тирана? Да, тирана, как ни смешно это звучит. Если учесть все в совокупности, то нельзя не понять простых людей, называющих беспомощного статиста, жалкого пигмея, не имеющего своей воли, кровопийцей и тираном…
И еще одно. Кстати говоря, очень немаловажное.
Вполне понятно, почему господа Бриссо, Верньо, Жансонне и прочие хотели бы спасти короля. Разумеется, не от большой любви к нему и не из человеческой жалости. Нет, дело здесь совсем в ином. Они боятся будущего. Они не верят в прочность республики. Не верят в силы революции. И ненавидят тех, кто в эти силы верит. Им нужен рычаг, который всегда будет угрозой для патриотов. Если бриссотинцы спасут его, «болото»
[7] окончательно сплотится с ними, Гора же навсегда утратит свои позиции и погибнет, а Конвент превратится в контрреволюционное учреждение, которое вытравит все завоевания прошлых лет, уничтожит свободу и равенство, вернет народ к временам рабства.
Но нет. Этого нельзя допустить. Этого не будет. Он помешает этому. Его речь готова. Ее подготовила сама жизнь. Так стоит ли трудиться над конструкцией гладких фраз, обтекаемых оборотов, вдохновенных отступлений? Он не станет этого делать. Он выступит, когда придет его час.
И вот час пришел.
Утром 13 ноября первым поднялся Петион. Его круглое простоватое лицо, обычно кривившееся в смущенной полуулыбке, на этот раз выглядело слишком серьезным. Ренегат Петион… Недавно Робеспьер рассказал об их былой дружбе, о том, как в день закрытия Учредительного собрания им обоим устроили восторженную встречу. Устроил народ. Ведь в то время Петиона также называли Неподкупным… А теперь над ним смеются. Все знают, что ради престижа и жирного куска он продался Жиронде… Петион преисполнен важности. Он сознает ответственность своего выступления. Собственно, это даже не выступление. Петион ставит проблему прений: может ли король подлежать суду?
Вот так проблема! Ведь еще в начале ноября были заслушаны доклады депутатов Валазе и Мейля, из которых следовало, что Конвент
должен судить Людовика! Правда, Валазе допустил ошибку, предложив, чтобы короля судили как простого гражданина. С этим можно и нужно спорить, но вопрос о подсудности как будто не вызывал сомнений. Тогда Конвент постановил даже, чтобы доклад Мейля был разослан во все коммуны республики! А теперь, собравшись с силами, они хотят переиграть… Ну что ж, послушаем.
Поднимается жирондист Мориссон. Личность малоизвестная. Он не выступал до сих пор, но эту речь подготовил тщательно. Точнее, ему подготовили: над речью, несомненно, трудилась вся котерия. Мориссон вежлив, корректен, предупредителен. Он постоянно извиняется, просит поправить, если допустил ошибку. Он заранее уверен, что его мнение будет противоположно мнению большинства (!). Нет, он не питает теплых чувств к королю и не жалеет черной краски для характеристики Людовика: король — клятвопреступник и злодей, он предал родину и осыпал французским золотом ее врагов, он был причиной гибели тысяч граждан, кровь которых вопиет о мщении, но (так! Вот наконец появилось и неизбежное «но»)… Но короля, как и всякого другого гражданина (!!!), можно судить только на основании положительного закона, существовавшего ко времени совершения его преступлений. Есть ли такой закон? Нет, уголовный кодекс им не располагает. А конституция, основной закон страны, гласит: «Особа короля священна и неприкосновенна». Итак: Людовик может пасть только под мечом закона; закон безмолвствует, следовательно, короля ни судить, ни осудить нельзя!..
Все. Они высказались до конца. И теперь возможны только перефразировки принятого тезиса. Теперь они пойдут петь одно и то же на разные голоса. Но тезис ведь ложен. Он сейчас им докажет это и разом похоронит их торжество.
Он идет к трибуне.
В первый раз.
Идет уверенной, твердой поступью, высоко подняв голову.
Он слышит бегущий за собою шепот: «Кто это?», «Как его имя?» Но все это не смущает его ни в малой мере. Он холоден, собран, уверен в себе.
Медленно поднявшись на трибуну, оглядывает зал.
Это не совсем обычное зрелище. До сих пор он, сидевший на верхней скамье амфитеатра, видел, если не считать ораторов на трибуне, одни лишь затылки. А теперь он видит лица, только лица, очень разные, но все обращенные к нему, напряженные, ждущие.
И он бесстрашно бросает в эти лица, прямо в них, единым сгустком начальные фразы, давно отлитые памятью:
— Я намерен доказать, что король подлежит суду; что мнение Мориссона, отстаивающего неприкосновенность монарха, и мнение Валазе, предлагающего судить короля как гражданина, одинаково неверны; что его должно судить на основании совершенно иных принципов… Я утверждаю, что короля надо судить как врага; что нам предстоит не столько судить его, сколько поразить; что, так как он исключен из договора, связывающего французов, судебные формальности здесь следует искать не в гражданских законах, а в международном праве!..
Он слышит свой голос, оценивает дикцию и чувствует, что взял верный тон. Слова рассекают воздух отчетливо, словно рубят. И они слушают, превратясь во внимание. Нет ни шиканий, ни разговоров. Это придает ему уверенность, речь теряет первоначальную нарочитость, льется более плавно, свободно. Он умело оперирует историческими примерами, обращается и к будущему. Постепенно выполняя свои обещания, он разбивает софизм «неприкосновенности» и издевается над тезисом о «короле-гражданине». «Какую республику хотите вы учредить среди нашей борьбы и общих слабостей? — спрашивает им и сам же отвечает: — Каков будет характер процесса над королем, такова же будет и ваша республика».
Он развивает свои положения, углубляет их; он говорит и говорит, и никому не приходит в голову, что его можно прервать, освистать, заставить прекратить свою речь.
Но вот, словно заклятие, бросает он последнюю фразу:
— Народ! Если король будет оправдан, помни, что мы недостойны больше твоего доверия; ты смело сможешь обвинить нас тогда в измене!..
Зал оцепенело молчит.
Он спускается с трибуны и так же спокойно, ни на кого не обращая внимания, идет на место. Садится.
И только тогда вдруг разрывается тишина. Словно опомнившись, начинают бить в ладоши. Аплодируют и враги. Не за смысл речи, конечно, — за ее форму, силу, необычность.
Жирондисты были потрясены.
На следующий день Бриссо писал в своей газете:
«…В этой речи есть просто блестящие места; не сомневаемся, талант молодого оратора прославит Францию…»
— А что, — улыбнулся Робеспьер, — не говорил ли я, что они начнут увиваться за тобою? Они поняли твою силу, но не знают еще глубины твоих принципов и поэтому надеются переманить тебя, как переманили Петиона. Ну что ж, пусть надеются.
Антуан сам чувствовал силу своей речи. Ему казалось даже, что Робеспьер ее недооценил. Но вскоре он понял, что ошибся.
Девятнадцать дней спустя Робеспьер, умело сгруппировав многие его положения и доводы и придав им кристальную ясность и логическую завершенность, прочитал в Конвенте речь, нанесшую смертельный удар стратегии и тактике Жиронды. Под непосредственным впечатлением от этой речи был принят декрет:
«Национальный Конвент будет судить Людовика XVI».
Все последующее не интересовало Сен-Жюста: он понимал, что дело сделано и теперь противникам не отбиться. Единственное, что им оставалось, — это тянуть время. И они тянули изо всех сил. И это было очень скучно.
Проходили неделя за неделей, медленно разворачивался процесс, ведшийся по всем правилам. Чтение обвинительного акта сменилось прениями, прения — допросом Людовика, допрос Людовика — длинной речью адвоката, речь адвоката — новыми прениями.
Это было очень скучно, ибо он, да и не только он, а теперь уже и все прекрасно знали, что конец может быть только один. Он потерял всякий интерес к этому делу, и поэтому, хотя еще дважды брал слово, его новые речи не шли в сравнение с первой: они повторяли уже сказанное. Когда наконец дело дошло до голосования, которое было поименным и продолжалось 36 часов, он, в отличие от Робеспьера, весьма пространно мотивировавшего свой вотум, выступил предельно кратко:
— Ввиду того, что Людовик Шестнадцатый был врагом народа, его свободы и счастья, подаю голос за смертную казнь.
Он не сомневался, что жирондисты, два месяца отчаянно боровшиеся за жизнь короля, предадут его. Так и получилось: Людовик был осужден пятьюдесятью тремя голосами, причем среди осудивших оказался Бриссо со всеми своими единомышленниками.
Сен-Жюст никогда особенно не гордился этим, но знал: таковы были конечные результаты его первой речи в Конвенте. Все начиналось здесь.
3
Впрочем, только ли здесь? А его первая встреча с Робеспьером за два месяца до этого?.. И сама встреча, и то, что было связано с нею, и то, что произошло после нее…
Сен-Жюст знал и любил Париж. 18 сентября он появился в столице отнюдь не впервые, во время своих прежних наездов он уже исходил великий город вдоль и поперек. Ему нравился центр, всегда шумный и многолюдный, он часто бродил у Тюильри и подолгу сидел на скамейках Люксембургского парка. Не меньше любил он маленькие переулки и улочки окраин, так похожие и непохожие друг на друга, всегда жившие своей обособленной и вместе открытой, пестрой и многоголосой жизнью.
Но этот приезд был особенным — первым после его избрания в Конвент. 18 сентября 1792 года он разгуливал по столице как триумфатор: здесь проходил рубеж всей его жизни и главные события по обе стороны его не могли не остаться памятными до конца.
Ведь еще накануне он был в полном отчаянии. Предчувствуя события 10 августа, он у себя в Блеранкуре буквально выл от тоски, снедаемый злостью, что не может участвовать в подготовке великого штурма. «Республиканская лихорадка» била его непрерывно. Тогда он дошел даже до черной несправедливости: возненавидел своих друзей, находившихся там, в столице, только за то, что они могли действовать, а он был обречен на бездействие. Потом, когда восстание увенчалось успехом, монархия рухнула и были объявлены выборы в Конвент, злость и тоска сменились тревогой. Его кандидатуру сразу же поддержали, но он не чувствовал полной уверенности. Ведь год назад, при выборах в Законодательное собрание, он не прошел! Свора проклятого Торена придралась к тому, что ему не было полных 25 лет, установленных законом… Тревога оказалась напрасной: он был избран 349 голосами из 650 вотировавших. Что тут началось! Когда серьезный, одухотворенный, молодой, он вышел на середину зала, грянули аплодисменты. Председатель провинциального избирательного собрания обнял его и поздравил, заметив, что добродетели опередили возраст избранного… И вот он в столице.
Собственно, в этот раз он почти не узнал Парижа, и быть может, именно поэтому все запомнилось особенно прочно.
Падение Вердена, отход армии к Шалону и призрак вторжения насторожили и ощетинили столицу, а «сентябрьская резня»
[8] словно обескровила ее. Вдоль улиц маршировали отряды волонтеров; Тюильри, Люксембург и Елисейские поля, перестав быть местами прогулок, превратились в военные лагеря; только и слышались звуки военных горнов, дробь барабанов да еще выкрики: «Жить свободным или умереть!» Поднимаясь по внешним бульварам от Сент-Антуанского предместья до заставы Сент-Оноре, Сен-Жюст не встречал больше ни шустрых разносчиков, ни канатных плясунов, ни нарядных барышень с их кавалерами; театры были закрыты, лавки не торговали, а уличные фонари, несмотря на сгущавшиеся сумерки, никто и не думал зажигать.
Впрочем, все это Сен-Жюст заметил лишь мимоходом. Эта первая встреча со столицей после избрания в Конвент так взволновала его потому, что она была и первой встречей с Робеспьером.
У него было много адресов, в том числе и адрес гостиницы, но начинать с гостиницы казалось невозможным, не для этого он так стремился сюда. Можно было бы завернуть на площадь Французского театра, к Демулену, но к Демулену он не пойдет. Он заглянул в тайник его души, и Камилл догадывается об этом… К Добиньи?.. Нет. Прежде всего — к Робеспьеру. Быть может, это слишком самонадеянно и для первого визита поздновато, уже совсем темно, однако время теперь необычное, все нормы сместились, и подлинный патриот не осудит его.
Робеспьер! Вот к кому его властно тянуло, столь властно, что он не мог противиться велению сердца, словно предчувствуя свою будущую близость к этому замечательному человеку, словно осязая душой неразрывную связанность с ним.
Робеспьер… Неподкупный — так окрестили его простые люди еще в дни Учредительного собрания… И правда, не ждавший ни оваций, ни наград, иной раз почти в одиночку противостоя сонму врагов, этот бесстрашный трибун неустанно бился за права народа, за облегчение участи обездоленных, за подлинные свободу, равенство и братство, за Справедливость с большой буквы… Беспощадный враг знати, богачей, обличитель лицемеров и приспособленцев, Робеспьер давно уже стал магнитом для всех искренне преданных великому делу революции; удивительно ли, что и он, Сен-Жюст, не избежал этой силы притяжения?..
Через улицу Ришелье, миновав дом Мольера, он снова вышел на Сент-Оноре и повернул направо. Здесь все было знакомо: вот церковь святого Рока, вот Вознесение, а вот и нужный дом… Да, № 366, это здесь…
Он нырнул в широкий проем и остановился перед дубовой дверью. Постучал. Еще и еще раз. Наконец замок щелкнул, дверь приоткрылась, и из-за нее выглянула девушка со свечой в руке.
— Что вам здесь нужно?
— Вы не слишком любезны. Скажите, это дом гражданина Дюпле?
Девушка неохотно кивнула.
Он посмотрел на нее пристально, и она смутилась.
— Мне нужен депутат Конвента гражданин Робеспьер.
— В такое время?
— Это не терпит отлагательства.
— Он ожидает вас?
— Нет, но это не меняет дела.
Девушка пожала плечами.
— Не знаю, право, что с вами делать… Ну ладно, пойдем.
Прикрыв свечу рукой, она вышла, спустилась со ступеньки и повела позднего визитера через двор, вдоль сарая, примыкавшего к внутренней стене дома; подойдя к маленькой двери, открыла ее ключом и, пригласив знаком следовать за собой, поднялась по скрипучей лестнице. Постучав в дверь на площадке, тихо сказала:
— Максимильен, это к тебе.
Комнатушка с небольшим окном, тускло освещенная настольной лампой, охватывалась одним взглядом: кровать, стол, несколько стульев и полка с книгами составляли все ее убранство. У кровати вытянулся огромный пес. При входе посетителя он заворчал.
— Тубо, Броун!
Из-за стола поднялся худощавый человек среднего роста и, сдвинув на лоб очки, холодно посмотрел на вошедшего. Не ответив на приветствие, сухо спросил:
— Кто вы такой и что вам угодно?
— Мое имя Луи-Леон-Антуан-Флорель Сен-Жюст.
Робеспьер прищурился и тихо повторил: «Сен-Жюст…» Он снова сел к столу, выдвинул ящик, достал аккуратно перевязанную пачку бумаг и стал просматривать ее, словно забыв о человеке, продолжавшем стоять у двери.
Пока Робеспьер рылся в связке, Сен-Жюст внимательно рассматривал его. До сих пор он видел прославленного депутата только издали; на трибуне тот был всегда в парике и во фраке, держался подчеркнуто прямо и казался неприступным; сейчас же, близорукий и неловкий, в старом потертом шлафроке, он выглядел совсем иначе… Наконец найдя какой-то листок, Робеспьер углубился в него, потом снова посмотрел на посетителя внимательными светлыми глазами. Теперь голос его стал другим, в нем слышались теплые, почти дружеские нотки:
— Ну конечно же я помню вас. Вы всегда принадлежали к числу друзей свободы. Вы ведь избраны в Конвент, не так ли? Садитесь же, прошу! — И он указал на стул, стоивший рядом.
Сен-Жюст улыбнулся. Он знал, что за листок в руках Робеспьера. Это было письмо, отправленное Антуаном в 1790 году из Блеранкура, письмо, начинавшееся словами: «К Вам, кто поддерживает изнемогающую Родину против потока деспотизма и интриг, к Вам, которого я знаю только как бога по его чудесам, я обращаюсь…» А кончалось письмо так: «…я не знаю Вас лично, но я вижу, что Вы большой человек, Вы не просто депутат одной провинции, Вы депутат Человечества и Республики…»
Да, уже на заре Учредительного собрания юноша стал разочаровываться в Барнаве и Ламете — своих прежних богах, кумирах первой Ассамблеи. Уже в то время его богом становился Неподкупный. А сегодня бог спустился с далеких небес…
Слово за слово завязалась беседа. Она текла свободно и непринужденно. Робеспьер первым сделал шаг к сближению, заметив:
— Итак, вы Луи-Леон-Антуан-Флорель… Видите, я запомнил. А я Максимильен-Мари-Изидор. Но близкие называют меня просто Максимильеном. А вам какое из ваших имен приятнее?
Сен-Жюст смутился.
— Как вам сказать… Родные зовут меня Антуаном, но мне больше нравится имя Леон.
— А мне — Флорель. Вот действительно чудесное и притом редкое имя; не с ним ли связано представление о Флоре, богине цветов? Оно говорит о расцвете физических и духовных качеств человека… Как оно подходит вам! Что, если я назову вас Флорелем?
Сен-Жюст преодолел смущение. Он ответил просто:
— Извольте. Угодное вам не может быть неприятно мне.
…Только теперь он почувствовал, что язык у него начинает заплетаться: непреоборимая усталость — результат суматохи последних дней — вдруг проступила наружу; он зевнул.
Робеспьер все понял.
— Кстати, Флорель, — сказал он как бы между прочим, — вы ведь устали с дороги. Скиньте-ка ваш редингот и прилягте.
— Что вы, — всполошился Сен-Жюст, — о чем вы говорите…
— А что здесь особенного? Мы же единомышленники и, надеюсь, будем друзьями; к чему излишние церемонии?
— Но право, это неудобно.
— Удобно. Уж если не побоялись прийти в такое время, — улыбнулся Робеспьер, — значит, все удобно. А мне как раз предстоит работа. — Он сделал вид, что погружен в чтение.
Не в силах противиться соблазну, Сен-Жюст лег. Через мгновение он уже спал. Робеспьер же, взяв чистый лист, написал: «Огромные способности. Чист. Предан».
Неподкупный привык делиться мыслями с бумагой. Этот листок Сен-Жюсту довелось увидеть через полтора года после своей первой беседы с Робеспьером.
Благодаря дружбе с Элизой — девушкой, открывшей дверь в день его приезда, — Антуан, почти ежедневно посещавший дом на улице Сент-Оноре, вскоре знал уже все о семье Дюпле и ее роли в жизни Неподкупного.
С того дня, когда в ответ на предложение Мориса Дюпле Робеспьер согласился переждать под его кровлей бурные часы, последовавшие за расстрелом на Марсовом поле, он, совершенно не подозревая, начал новый этап своей жизни. Бездомный, он получил не только квартиру, но и уход, одинокий, приобрел любящую семью, гонимый, встретил горячих единомышленников и приверженцев, робкий и неуверенный, почувствовал полное понимание и поддержку. И если верно, будто человека формирует среда и обстоятельства жизни, то Неподкупного как политического деятеля во многом сформировал дом Дюпле, отныне Сен-Жюст не сомневался в этом.
Морису Дюпле в то время было под шестьдесят, но выглядел он гораздо моложе. Этот коренастый человек в растрепанном парике и потертом камзоле был энергичен и расторопен, а в глазах его светилось спокойствие работника, уверенного в своем завтрашнем дне. Столяр по профессии, он имел мебельное предприятие, регулярный доход от которого позволил ему приобрести три дома, сдававшиеся под квартиры. Взыскательный хозяин и строгий глава семьи, Дюпле не был чужд просветительной философии, а с начала революции стал завсегдатаем Якобинского клуба, где и встретился с Робеспьером, ставшим его любимым оратором и духовным вождем.
Семейство ремесленника-дельца было под стать добродетелям самого господина (а ныне гражданина) Дюпле. Жена его, Мари-Франсуаза, происходившая также из потомственных столяров, была на несколько лет старше мужа и обладала достоинствами образцовой матери и хозяйки; полностью разделяя взгляды мужа, она стремилась привить их своим дочерям и малолетнему сыну.
Из четырех барышень Дюпле в доме отца жили три: Элеонора, Виктория и Элизабет; четвертая, Софи, в самом начале революции вышла за провинциального адвоката и переехала к нему в Овернь. Хотя Морис Дюпле и стоял «выше суеверий», дочери его воспитывались в соседнем монастыре, что не помешало им, конечно, в годы революции разделить убеждения, господствовавшие в семье.
Старшая из сестер, Элеонора, увлекалась живописью и брала уроки у метра Реньо, соперника Давида. Это была высокая, стройная девушка с очень спокойным выражением лица. Правда, лицо ее заметно оживилось и порозовело, когда в доме появился Неподкупный… Молва окрестила Элеонору «невестой Робеспьера». По какой причине? Потому ли, что девушка проявляла особенное внимание к жильцу, а он в свою очередь был с нею особенно мягок и предупредителен? Или потому, что их часто видели вместе прогуливающимися вдоль Елисейских полей? Во всяком случае Максимильен никогда не посвящал друга в свои сердечные тайны, а Антуан никогда не обнаруживал стремления эти тайны раскрыть.
Младшая сестра Элеоноры, Элизабет, была любимицей семьи. Хорошенькая, веселая, озорная, она могла быть, когда требовали обстоятельства, очень серьезной. Всеобщая любовь не избаловала ее: Элиза стремилась помочь каждому, глубоко переживая огорчения близких. Молодые люди, принятые у Дюпле, наперебой ухаживали за Элизой, но до сих пор еще никому не удавалось проникнуть в ее сердце. Никому, пока не появился двадцатипятилетний Антиной, с первой же встречи поразивший воображение девушки и почему-то не пожелавший этого заметить…
Воспитание барышень Дюпле не отучило их от домашней работы. Девушки умели стирать и гладить, шить, вязать и чинить белье, а также помогали матери на кухне; в доме не
было постоянной прислуги, лишь для большой уборки дважды в месяц приходила женщина из Шуази, где жил и работал брат Мари-Франсуазы, столяр Жан Пьер Вожуа.
Семьи Дюпле и Вожуа находились в близких отношениях и часто встречались домами. По праздничным дням в хорошую погоду Морис Дюпле, заложив старый рыдван, со всем семейством отправлялся в Шуази, к шурину на обед; впрочем, обед был предлогом; просто хотелось отвлечься от городских забот, отдохнуть на природе. Младшие Дюпле иной раз оставались в Шуази: очень уж был им люб старый уютный дом дяди Вожуа, с тенистым садом, спускавшимся прямо к Сене, — Элиза с восторгом рассказывала обо всем этом Сен-Жюсту.
Антуану нравились Дюпле, ему было приятно наблюдать внимание и заботу, которыми все члены семьи окружали его старшего друга. Он стал завсегдатаем «четвергов» гражданки Дюпле, когда вечерами, после заседания в Клубе, в ее гостиной собирались ближайшие соратники Неподкупного, чтобы, ненадолго отвлекшись от политических споров, поговорить об искусстве, послушать музыку и пение или просто поболтать о том о сем. Иногда устраивались литературные чтения, и Робеспьер становился героем дня: он прекрасно декламировал стихи Корнеля и Расина — своих любимых поэтов.
И вот, когда Антуан совершенно свыкся с новыми друзьями, как раз в период процесса короля, здесь развернулись домашние события, печальные и комические одновременно.
Поскольку вместе с Максимильеном Робеспьером в Конвент был избран его младший брат, Огюстен, супруги Дюпле из уважения к своему знаменитому постояльцу выделили комнату и его брату. С ним поместилась сестра Шарлотта, еще раньше приехавшая из Арраса. Сен-Жюст уже в первые дни пребывания в Париже познакомился с Огюстеном, а потом они сидели в Конвенте на одной скамье. Что же касается Шарлотты, то, хотя Антуан и видел ее несколько раз у Дюпле, он едва раскланивался с нею: девушка держалась очень гордо и отчужденно, «четверги» посещала редко и на них не удостаивала разговором никого из присутствующих. Максимильен болезненно переживал эти особенности сестры. «У нее доброе сердце, — словно в оправдание говорил он Сен-Жюсту, — но такой уж она родилась, с этим ничего не поделаешь…» И только раз как-то к слову он заметил: «По-видимому, она ревнует меня к нашим хозяевам».
Антуан про себя только посмеивался и от души сочувствовал другу. Однако один разговор его насторожил.
— Ты думаешь, — вдруг без видимой причины спросил его Робеспьер, — что я живу нахлебником у Дюпле? Ошибаешься. Я плачу столяру за нас троих тысячу ливров ежегодно!
— Помилуй, — пожал плечами Сен-Жюст, — мне-то какое дело?
— А такое, что я жду от тебя совета. Кое-кто считает, что мне неудобно здесь оставаться: это выглядит не совсем прилично… Ты понимаешь меня, надеюсь?
— Абсолютно не понимаю.
— Ну что здесь понимать… Ведь я, скажем без ложной скромности, все же видный депутат Конвента, а выгляжу точно приживала, не имеющий ни своего угла, ни своей семьи…
— Ах вот что тебя волнует… Но ведь здесь-то как раз есть и твой угол, и твоя семья.
Максимильен поморщился.
— Пожалуй… И все же временами я чувствую себя не в своей тарелке. Да к тому же здесь молодые девушки. Не компрометирует ли их подобная ситуация?
— Какая чепуха!
— Может, чепуха, а может, и нет… Но оставим этот разговор.
Этот разговор Антуан вспомнил через несколько дней, придя к Дюпле и увидев заплаканное лицо Элизы. Не желая смущать девушку, Сен-Жюст сделал вид, будто ничего не заметил.
— Я пройду к Максимильену, — сказал он.
— У нас нет больше Максимильена, — всхлипнула Элиза. Когда она немного успокоилась, Антуан узнал все.
— Максимильен очень щепетильный человек, — говорила Элиза. — Конечно, он любит нас, дорожит нашей дружбой, но временами его словно подменяют. Это ее влияние. Старая дева, без меры гордая успехами своего брата, она хотела бы завладеть им целиком. А Максимильен очень слаб…
«Ого! — подумал Сен-Жюст, — очень слаб! И это говорит слабое существо о человеке, потрясающем троны и партии!»
— Мы терпеливо сносили ее чванство, — продолжала девушка. — Я даже удивляюсь выдержке мамы; будь я хозяйка, я не могла бы так. Она ненавидит всех нас, но больше всех, конечно, Элеонору.
— Почему же именно Элеонору? — невинно спросил Сен-Жюст.
Девушка покраснела.
— А вы не догадываетесь почему?
— Догадываюсь, — улыбнулся Сен-Жюст. — Но продолжайте, Элиза.
— Так вот, позавчера во время обеда отец сообщил, что Максимильен переезжает. Он якобы снял квартиру на улице Сен-Флорантен и будет жить там. Мы поняли, кто снял ему квартиру. Мама набросилась было на отца, упрекая, что он не удержал Максимильена. Но отец ответил, что это было бы бестактно, и мама с этим согласилась. А вчера он простился с нами, да и простился-то уж очень поспешно, словно его гнали, и уехал. Потом мастеровые отца отнесли его вещи — улица Сен-Флорантен совсем неподалеку от нас. Вот и все, милый Флорель. Надеюсь, что вы-то не покинете нас по примеру своего друга и хоть изредка будете навещать?
Сен-Жюст крепко пожал ей руку.
— Можете не сомневаться. Да и он-то никуда не денется; не претендуя на роль пророка, скажу вам, что он скоро вернется…
Во время ближайшего заседания Конвента Сен-Жюсту показалось, что Робеспьер избегает его взгляда. В перерыве Антуан подошел к другу.
— Почему не зовешь на новоселье? Смотри, будешь тянуть — приду без приглашения.
Робеспьер смутился, бросил на Антуана умоляющий взгляд, и было в этом взгляде что-то от побитой собаки.
«Ну и ну, — подумал Сен-Жюст, — и это ты, Неподкупный, Непреклонный, Непоколебимый, перед которым я всегда чувствовал себя жалким мальчишкой…»
А на следующее заседание Робеспьер не пришел.
И через день тоже не пришел.
Сен-Жюст узнал у Дюпле номер дома и ринулся на улицу Сен-Флорантен.
Он постучал.
— Что вам угодно? — спросил за дверью сухой женский голос.
Без лишних церемоний Антуан с силой нажал на дверь и очутился в темной прихожей.
— Здравствуйте, — сказал он Шарлотте, — вы меня не узнали?
— Это ваш обычный способ проникать в чужие дома? — ехидно спросила сестра Робеспьера.
— Он не чужой мне, поскольку здесь живет мой друг… Проводите, пожалуйста, меня к нему.
— Робеспьер болен.
— Тем более я должен видеть его.
Она не шевельнулась.
— Сюда, сюда, милый Флорель, — услышал он слабый голос друга.
…Комната была как комната, скорее маленькая, чем большая, да к тому же заставленная дешевой мебелью. В нос била затхлость, смешанная с запахом лекарств. Закрытые и зашторенные окна не пропускали ни воздуха, ни света. У противоположной стены на узкой кушетке лежал Робеспьер. Даже при слабом освещении была заметна восковая бледность его лица.
Сен-Жюст бросился к нему.
— О небо, да что же с тобой, Максимильен?
— Сядь, — тихо сказал Робеспьер и тут же быстро спросил: — Что нового в Конвенте?
— Что нового в Конвенте, — передразнил его Сен-Жюст, отдергивая шторы и раскрывая окно. — В Конвенте все по-старому, но если так будет продолжаться, Конвент потеряет выдающегося депутата!
— Как вы смеете! — вдруг взвизгнула Шарлотта и запоздало кинулась к окну, чтобы помешать действиям Сен-Жюста.
— Шарлотта, будь добра, оставь нас, — попросил Робеспьер.
— Но, Максимильен…
— Немедленно оставь нас! — раздраженно повторил Робеспьер.
Девушка, метнув убийственный взгляд на Антуана, вышла, но шаги ее смолкли у самой двери.
«Подслушивает, — подумал Сен-Жюст. — Тем хуже для нее».
— Друг мой, — простонал Робеспьер, едва закрылась дверь, — я страдаю физически, но еще более духовно.
— Поделом тебе.
— Я не могу больше без них.
— А кто велел тебе уезжать?
— Но я не хотел уезжать. Все получилось как-то само собой. А они меня и не слишком задерживали.
— У них достало деликатности.
Тут дверь с шумом распахнулась: Шарлотта не выдержала.
— Уходите, немедленно уходите! — вопила она. — Разве не видите, что он болен? Это подлые Дюпле довели его до болезни…
Робеспьер мигом вскочил с кушетки и заорал еще громче:
— Прочь! Убирайся отсюда, исчадие ада, или я выброшу тебя!
Лицо его конвульсивно дергалось, голос срывался. Таким его Антуан не видел никогда и не представлял, что может увидеть.
Девушка с плачем исчезла. Сен-Жюст обнял друга.
— Полно, мой милый, ты не жалеешь себя. Не горячись. Побеждают флегматики. И не думай, что ты забыт. Они ждут тебя…
…Час спустя он был у Дюпле.
— Зовите родителей, — сказал он Элизе, — Максимильен дозрел. Быстрее везите его обратно и никуда больше не выпускайте!
— О Флорель! — радостно воскликнула девушка, — вы и впрямь волшебник! Бегу, бегу, и если то, что вы говорите, правда, он сегодня же будет дома!..
4
Вспоминая прошлое, Сен-Жюст не раз задумывался над тем, почему, одержав победу на процессе короля и получив поддержку «болота», они тут же, в начале 1793 года, не сокрушили Жиронду.
Теперь, когда все было позади, он понимал: тогда они испугались. Просто испугались санкюлотов, того самого народа, во имя которого вели борьбу.
Взять хотя бы его, Антуана.
Да, он потомок крестьян, он не обманывал Робеспьера, заявив ему об этом. Но его детство и юность, прошедшие на ферме, напоминающей помещичью усадьбу, его воспитание, домашний уклад — все это было весьма далеко от жизни подлинного народа — бедняков, трудившихся с утра до ночи, чтобы не умереть с голоду.
Он пришел в революцию ради свободы и счастья народа.
Но сам-то народ был известен ему больше по произведениям просветителей, нежели на основании глубокого личного с ним знакомства.
И поэтому нет ничего удивительного, что, когда зимой и весной 1793 года по всей Франции начались народные волнения, они на первых порах поставили его, как и других монтаньяров, в тупик.
Робеспьер и Сен-Жюст не могли отмахнуться от этих событий. Еще в дни суда Антуан погрузился в экономические проблемы. И если речь по делу короля явилась как бы экспромтом, то речь о продовольственном вопросе, составленная им к концу ноября, была тщательно подготовлена и стоила нескольких бессонных ночей.
Он произнес ее в Конвенте 29 ноября.
Это была сильная речь. Анализируя причины кризиса, Сен-Жюст обнаружил главное, что, по его мнению, приводило к расстройству экономики и к дороговизне, вызывавшей беспорядки в стране:
— Неограниченный выпуск денежных знаков — вот что перевернуло во Франции торговлю зерном. Их столько накопилось в обращении, что ими представлены все наши богатства как в металле, так и в виде земельного фонда; но они ничего не стоят на рынке, потому что не имеют никакой ценности для потребителя…
Исходя из этой посылки, Сен-Жюст мастерски раскрыл механику искусственно создаваемого голода. Ведь хлеб был: урожай 1792 года давал полную возможность прокормить страну, но зерно не поступало в продажу.
И вот результат:
— Если так будет продолжаться, деньги потеряют всякую цену, обмен придет в расстройство, производство прекратится, ресурсы иссякнут. Нам останется только грызть землю…
Безрадостная перспектива. И прямой удар по жирондистскому правительству: не оно ли повинно в валютном хаосе?
Но, определив одну из основных экономических причин кризиса, Сен-Жюст не видит причины социальной: он ни словом не обмолвился о скупке, спекуляции, о роковом результате жирондистской доктрины «свободы торговли». И поэтому выход, предложенный им, выглядит довольно односторонне:
— Необходимо, сколько возможно, ограничить количество денег; но, чтобы достичь этого, надо уменьшить государственный долг, не прибегая к выпуску новых ассигнатов…
После этой речи Сен-Жюста заметил Марат.
«Единственный оратор, — писал он в своей газете, — доставивший мне некоторое удовольствие… это Сен-Жюст. Его речь о продовольствии свидетельствует о хорошем слоге, диалектике, дальновидности. Когда он станет зрелым… он сделается мужем; это — мыслитель».
Но речь восхитила не одного Марата. Ей бурно аплодировали жирондисты. Особенный их восторг вызвало следующее место:
— Мне не нравятся насильственные законы о торговле. Требуют декрета о съестных припасах! Закон подобного рода никогда не будет разумным…
Новую речь Сен-Жюста услышали санкюлоты Парижа. И отозвались так, что привели в смущение оратора.
12 февраля он явился в Конвент в приподнятом настроении: ему предстояло высказаться по вопросу организации вооруженных сил республики; он тщательно подготовил свое выступление и ожидал, что оно будет хорошо принято.
Когда Антуан проходил через зал, то заметил, что многие депутаты читают какие-то листки, а некоторые иронически посматривают на него. Занятый своими мыслями, он не придал этому значения.
Вдруг как из-под земли возник Демулен.
— Бедный мой Антуан, — с лицемерным сочувствием сказал он, — догадываюсь, ты еще не читал этого. Посмотри-ка, полюбопытствуй, как изощряются эти бездельники! — И он протянул Сен-Жюсту листок.
Это была печатная афиша о продовольствии, в которой среди прочего имелись такие слова:
«…Народ знает, что ораторы, произносящие наилучшие речи и дающие прекрасные советы в народных собраниях, хорошо ужинают каждый вечер… К их числу принадлежит господин Сен-Жюст; сорвемте же гнусную маску, которой он прикрывается!»
Так… Получил… Он хорошо ужинает каждый вечер, и с него надо сорвать гнусную маску. Это за все его труды на благо революции, за бессонные ночи, отданные общему делу…
Демулен с интересом следил за лицом коллеги, которого так «порадовал». Но Сен-Жюст прекрасно владел собой, и на лице его не отразилось смущения.
— Не знаешь, чьих рук это дело? — небрежно спросил он.
— Афишу отпечатали петиционеры, делегаты от секций, собирающиеся сегодня выступить.
— А где они сейчас?
— Вероятно, в зале делегаций ждут своей очереди.
Сен-Жюст отправился в зал делегаций. Там он обнаружил пеструю группу плохо одетых людей; некоторые из них, прислонясь к стене, дремали, двое курили, а один, бородатый, размахивая руками, что-то яростно доказывал своим соседям.
Решив, что это главный, Сен-Жюст подошел к нему.
— Гражданин, — твердо, сказал он, — произошло недоразумение, и я хотел бы выяснить его.
— Тебе чего? — гаркнул бородатый, обернувшись к нему.
— Вам известно это? — Сен-Жюст показал ему листок.
— А тебе-то какое дело? — в том же тоне спросил бородатый, подозрительно оглядывая костюм Сен-Жюста. — Ты ведь, поди, из «черных»?
[9]
— Я депутат Сен-Жюст.
Бородатый съежился и смущенно оглянулся по сторонам. Спавшие проснулись. Курившие спрятали трубки. Стоявшие поодаль подошли ближе.
— Извините, гражданин депутат, — сказал после паузы бородатый, — каюсь, не признал.
— Как вы могли написать и отпечатать такое? — Сен-Жюст ткнул пальцем в отмеченное Демуленом место. — Ведь это же грубая, бесстыдная ложь!
Бородатый выпрямился.
— Это писал не я. Грубовато получилось, конечно. Но не такая уж и неправда. Достаточно, гражданин депутат, простите меня, поглядеть на вас, чтобы догадаться, что вы неплохо ужинаете…
Сен-Жюст почувствовал, как кровь приливает к лицу.
— И все-таки это ложь. Я никогда не носил «гнусной маски» и не был равнодушен к нуждам народа.
— Да, пожалуй, здесь малость перехвачено. Но ведь вы же подыгрываете им, хотите или нет, подыгрываете нашим смертельным врагам, которые готовы уморить Париж голодом!
— Вы не имеете права оскорблять депутатов Конвента!
— Нет, имею, — резко возразил бородатый и, опустив руку в карман, вытащил горсть обуглившихся зерен. — Вот, посмотрите, какую рожь выгружают в Сен-Николя и продают по спекулятивным ценам. Скажите, гражданин, стали бы вы есть это?
Сен-Жюст потрогал крупинки. Они рассыпались от прикосновения и отдавали гарью.
— Стали бы вы это есть? — повторил бородатый.
— Это ужасно, — прошептал Сен-Жюст.
— То-то, «ужасно»… Ужасно, да не для вас, доказывающего благодетельность свободы торговли. Вы ведь, небось, едите белый хлеб хорошей выпечки…
— А у меня пятеро детей да больная жена, — вступил в разговор один из стоявших рядом. — Ну-ка скажите, чем мне кормить их, когда спекулянты, пользуясь свободой торговли, дерут последнюю шкуру? Как спасти от голодной смерти моих малюток?
Тут заговорили все разом. Послышались угрозы, поднялись кулаки. Кольцо обступивших Сен-Жюста сомкнулось…
— Успокойтесь! — воскликнул он. — Я вовсе не враг вам, но самый горячий защитник ваших прав и интересов. Смело требуйте закона о торговле. Если Конвент не пожелает обсуждать ваше предложение, я попрошу слова и поддержу вас!
— Вот это — дело, — сказал бородатый. — Эй вы, пропустите гражданина депутата! — Потом немного подумал и спросил: — А не обманете ли вы нас, гражданин хороший?
Но Сен-Жюст не слышал последних слов: он был далеко.
Когда он вернулся в зал заседаний, председатель взялся за колокольчик, чтобы возвестить начало рабочего дня. У центрального прохода Антуан нос к носу столкнулся с Неподкупным. Взгляд Робеспьера был насторожен.
— А, это ты. Очень рад. Судя по твоему решительному виду, ты намерен выступать; но бьюсь об заклад, это не будет речь, касающаяся организации армии.
— Ты прав, Максимильен. Я вне себя от гнева.
— По какому случаю?
— Я только что беседовал с петиционерами.
— С теми, кто оскорбил тебя в этом листке?
— Да.
— Ну и что же?
— Они правы.
— Редкое самоуничижение. И что же ты думаешь делать?
— А что бы ты сделал на моем месте?
— Я бы никогда не попал в столь дурацкое положение.
— Это не ответ.
— Допустим. Но ты-то конечно же будешь отрекаться, бить себя в грудь и поддерживать их?
— Разумеется.
Робеспьер побледнел, и левый уголок его губ дернулся. Он положил руку на плечо Антуану:
— Заклинаю тебя, не делай этого.
— Почему?
— Если не понимаешь сам, то объясню, но не сейчас: видишь, заседание началось. Но обещай мне не делать этого.
— И не подумаю. Я уже все решил.
Робеспьер побледнел еще больше.
— Ты очень горяч, мой друг. Но умоляю: не делай непоправимой глупости. Обещай мне сегодня выступить только по вопросу организации армии. Обещай, слышишь же!
Этот человек имел какое-то необъяснимое влияние на Сен-Жюста. Он не мог не уступить. И он уступил: он дал обещание, которого требовал Неподкупный.
Заседание давно началось.
У решетки выступал оратор делегации; это был не бородатый, а тот, другой, с пятью детьми. Он говорил смело, резко, не испытывая ни малейшего смущения. Чувствовалось, что говорит о наболевшем. И депутаты, несмотря на видимую дерзость речи, не осмеливались его прерывать.
— Граждане законодатели, — говорил оратор, — недостаточно объявить себя республиканцами, нужно еще, чтобы народ был счастлив, чтобы у него был хлеб, ибо где нет хлеба, там нет и законов, нет свободы, нет республики!..
Не называя имен, оратор критикует всех выступавших против ограничения свободы торговли. И вот он подбирается к Сен-Жюсту.
— Вам говорили, что хороший закон о продовольствии невозможен. Это все равно что сказать: когда сброшены тираны, невозможно управлять государствами… Мы, уполномоченные сорока восьми секций Парижа, говорящие во имя блага восьмидесяти четырех департаментов, мы далеки от того, чтобы потерять веру в ваше понимание. Нет, хороший закон вовсе не является невозможным; мы вам предлагаем его, и, без сомнения, вы поспешите его принять.
Он предлагает установить тариф на продажу зерна и уголовную ответственность для тех, кто осмелится его нарушить.
Конвент молчит.
К решетке подходит бородатый.
Но едва он успевает сообщить, что имеет поручение от своих доверителей, санкюлотов департаментов, как его обрывают громкими возгласами негодования: «Надо выгнать этого обманщика!», «В тюрьму его!»
Луве объясняет причину всеобщего возмущения:
— Разве во Франции два Конвента, два национальных представительства? И если петиционер — делегат департаментов, то кто же тогда мы и каковы наши полномочия?
Жирондисты уязвлены в самое сердце.
И даже не одни жирондисты.
Марат, сам неустрашимый Марат, главный «дезорганизатор и смутьян», поносит петиционеров, уверяя, что здесь кроется какая-то низкая интрига; он предлагает обуздать «нарушителей общественного спокойствия».
Робеспьер укоряюще смотрит на друга.
Антуан опускает голову.
Между тем бородатого берут в шоры. Его допрашивают. Кто он такой? От чьего имени пытался говорить? И он ли сочинил текст ранее прочитанной петиции? Кто подсказал ему крамольные идеи?
Бородатый растерян. Он называет свое имя, тонущее в общем шуме. Затем сбивчиво объясняет, что выступить ему посоветовал один депутат…
Сен-Жюст еще ниже опускает голову. Сейчас он хотел бы провалиться сквозь землю.
— Что за депутат? Его имя? — добиваются добровольные следователи.
Бородатый называет имя Сен-Жюста…
— Впрочем, — добавляет он, — я совсем не знаю этого человека, я видел его всего лишь раз.
Зал смущенно молчит. Все взоры обращены на него.
Нет, как низко ни опускай голову, это не поможет. Надо объясняться. А что он может объяснить?..
Он с трудом отрывается от скамьи. Что-то лепечет в свое оправдание. Надеется, что за общим шумом не разберут слов. Тщетная надежда! В зале уже мертвая тишина, и каждое его слово слышно на всех скамьях.
Да, он видел этого человека… Да, он советовал ему выступить. Обещал ли ему поддержку? Ну, это смотря как понимать…
Робеспьер спешит на помощь другу.
— Я думаю, — говорит он, — что много распространяться нечего, все абсолютно ясно. Марат прав: здесь замешана грязная интрига. Эти авантюристы имели частную беседу с нашим коллегой, извратили ее смысл и теперь пытаются использовать в своих гнусных целях. По-видимому, подозрительного петиционера и его товарищей нужно задержать и допросить. А нам — перейти к порядку дня: впереди большой разговор об организации армии.
— К порядку дня! — подхватывает Марат.
— Конечно, здесь говорить больше не о чем, — раздается громовой голос Дантона. — Требую перехода к очередным делам.
С этим все согласились.
Приставы Конвента вывели петиционеров, а депутаты перешли к очередным делам…
…В этот день Сен-Жюст произнес речь об организации армии, и речь была хороша, и ей аплодировали, и Неподкупный поощрительно улыбался ему. Но что ему было до этого, когда на душе лежал стопудовый камень и не то чтобы сбросить, но даже сдвинуть этот камень казалось невозможно. Впервые в жизни он чувствовал себя предателем. Предателем, обманувшим доверие бедняков и покрывшим себя вечным позором…
После заседания он сразу ушел, не желая разговаривать с Робеспьером. Он отправился в свою гостиницу «Соединенные Штаты», в унылую и грязную гостиницу на улице Гайон, закрылся в своей крошечной убогой комнатушке и, не раздеваясь, упал на кровать. Вечером не пошел к Якобинцам, ночью почти не спал, а утром был в таком состоянии, что оказался вынужден манкировать своими депутатскими обязанностями. Конечно, не пошел бы и к Дюпле, но Робеспьер примчался сам.
Он был впервые у Сен-Жюста.
— А у тебя здесь мило, — заметил он, осматривая близоруким взглядом пустые стены комнаты. — Где можно сесть?
Не вставая с постели, Сен-Жюст толчком ноги пододвинул кресло.
— Ты что, заболел? — насмешливо спросил Робеспьер и, не ожидая ответа, продолжал: — О тебе справлялся твой друг Демулен.
Сен-Жюст молчал.
— Скажи, ведь Демулен был тебе другом? — допытывался Робеспьер, словно избегая острой темы, ради которой пришел.
— Был, — нехотя ответил Сен-Жюст.
— А почему же нынче ты к нему охладел?
— Да так, не сошлись во взглядах… Но ведь и ты к нему охладел, насколько я понимаю.
Робеспьер подумал.
— Как тебе сказать… Ты знаешь, что мы с ним однокашники по коллежу Луи-ле-Гран?
— Он говорил мне об этом.
— Представь, мы снова встретились в начале революции. Встретились и сблизились. Я и Петион были шаферами на его свадьбе. Ты ведь знаком с его женой?
— Люсиль очаровательна.
— Да, очаровательна, — Робеспьер вздохнул.
Антуан вспомнил, что, по слухам, Робеспьер был неравнодушен к Люсили… до тех пор, покуда не встретился с Элеонорой.
— Еще не так давно, — продолжал Робеспьер, — Камилл регулярно являлся на «четверги» к Дюпле. С ним вместе захаживал Дантон. Теперь оба исчезли. По-видимому, навсегда.
Наступила тишина.
— Но оставим Камилла, — вдруг словно спохватился Робеспьер, — есть куда более важные заботы. Ты на меня дуешься, Флорель?
— Не совсем точно сказано, — нехотя ответил Сен-Жюст. — Больше всего я зол на самого себя, зол, что не смог тебе отказать и стал предателем.
— Ошибаешься. Все зависит от того, как смотреть на факт.
— Логика святых отцов.
— Святые отцы не были дураками. Но если ты все еще ничего не понял, придется выступить с разъяснениями.
— Говори.
— Они будут по необходимости довольно пространными.
— Говори же, я слушаю.
— Надеюсь, ты читал трактаты Руссо?
— Я считаю себя учеником Жан-Жака, хотя никогда его не видел и не слышал.
— Я тоже считаю себя учеником Жан-Жака, но мне повезло больше: я его и видел, и слышал. Именно он в беседе со мной предсказал неизбежность и скорый приход революции. Но дело не в этом. Вспомни-ка, что писал Руссо о собственности. Когда-то, во времена естественного состояния людей, ее не было вовсе: тогда земля не принадлежала никому, плодами же ее в равной мере пользовались все. Но после того, как жадные и жестокие осуществили первые захваты и огородили свои поля, естественное равенство нарушилось.
— Ты говоришь банальные вещи.
— Без них не обойтись. Терпи, раз обещал. Итак, естественное равенство было нарушено. К нашему времени общество ушло так «далеко вперед», несправедливость и неравенство так укоренились в нем, что возврат к золотому веку полного равенства уже невозможен.
— Ты так думаешь?
— Так думал Руссо. Но, анализируя историю общества и свойства отдельного члена общества, философ пришел к выводу, что, хотя возврат к полному равенству и невозможен, можно и нужно сделать две вещи: во-первых, уменьшить существующее крайнее неравенство и, во-вторых, добиться, чтобы неравенство состояний не влияло на политическое и гражданское положение людей. Эти две вещи и делает наша революция. И если бы не помехи со стороны жирондистов, она бы их сделала уже.
— Согласен.
— Слушай дальше. Некоторые не в меру экзальтированные умы считают, что от политического равенства, или даже до его установления, следует переходить к равенству имуществ. Отсюда выводится пресловутый «аграрный закон» — бредовая и вредная идея о немедленном и полном переделе земли и состояний. Как раз создатели и сторонники этой идеи ныне мутят бедняков столицы, бомбардируя Конвент петициями, требующими регулирования цен и нарушения свободы торговли. Если не пресечь подобные поползновения, они приведут к анархии и гибели революции.
— Но ведь вчерашний случай со мной — нечто совсем иное. Там не было «экзальтированных умов», там были живые люди, бедняки, семьи которых страдают от голода.
— Это частный случай.
— В том-то и дело, что это частный случай, с которым я столкнулся и который заставил кровоточить мое сердце.
Лицо Робеспьера стало жестким.
— Запомни, мой друг, азбучную истину. Политический деятель, думающий о спасении родины, не может считаться с частными случаями. Он вырабатывает общие идеи и положения, благодетельные для отчизны в целом. А частными случаями приходится пренебрегать. Аббат Ру и другие «бешеные», как их называют друзья бриссо — роланов, мутят народ и уводят его в сторону от насущных задач. Народ должен подняться не для того, чтобы хватать сахар и масло, а для того, чтобы сокрушить злодеев.
— Но кто же будет думать о том, чтобы облегчить нужду народа, дать ему сахар, и масло, и, в первую очередь, хлеб?
— Этим займемся мы, когда будет сокрушена Жиронда. Пока же надо бороться с демагогией, откуда бы она ни шла: справа или слева. «Бешеные» — такие же враги подлинных санкюлотов, как и бриссотинцы.
— И ты веришь этому?
— Я верю тому, что полезно народу. Вот увидишь: скоро начнутся серьезные беспорядки, более серьезные, чем были до сих пор. Справиться с ними мы сможем, лишь скомпрометировав смутьянов. Бороться на два фронта — дело трудное, но неизбежное.
Сен-Жюст задумался.
— Послушай, — воскликнул он вдруг, — а не лучше ли было бы нам пойти на союз с этими «бешеными»? Тогда бы не было «двух фронтов», о которых ты говоришь. И главное, разве не было бы это естественным для нас, защитников народного дела?
Робеспьер внимательно посмотрел на друга.
— А ты хитер, Флорель, умен и хитер… Я думал об этом. И скажу откровенно: я почти уверен, что предложенная тобой комбинация вполне жизненна и допустима. Но не сейчас… Кстати, сколько сейчас времени?
Он вынул часы.
— Бог мой, я заговорился и забыл обо всем на свете. А ведь якобинцы уже в сборе. Бегу. Ты же обдумай мои слова. И поскорее выздоравливай. — Последнее было сказано с явной издевкой…
…В тот момент Антуан не знал и не мог знать, что предложенная им комбинация покажет свою жизненность в ближайшем будущем и что именно союз с «бешеными» обеспечит монтаньярам победу. Впрочем, тогда этого еще не знал никто.
5
Казус с петиционерами привел к тому, что Сен-Жюст недооценил свою речь, произнесенную 12 февраля. А между тем его речь об организации армии, по мнению не только Робеспьера, но и многих других, была незаурядной и очень своевременной.
Когда весной 1792 года, ввергая Францию в кровопролитную войну с Европой, Бриссо и другие изощренно поливали грязью Робеспьера, одного из немногих, осмелившихся резко выступить против войны, они искренно рассчитывали на легкую увеселительную прогулку под звуки фанфар и барабанов. На самом же деле, как и предвидел Неподкупный, война принесла Франции тяжелые поражения и едва не поставила страну на грань национальной катастрофы. Народный энтузиазм в дни, последовавшие за падением монархии, спас республику от иностранного вторжения. Победы при Вальми и Жемаппе, казалось, повернули колесо фортуны. Однако казнь короля, восстановившая против Франции последних нейтралов, сделала войну всеобщей, и вопросы организации армии стали неотложными.
28 января Сен-Жюст впервые участвовал в прениях по этим вопросам. Выступая по докладу умеренного Сиейса, молодой оратор предостерег Конвент от чрезмерного усиления и автономизации военной власти. Словно предвидя будущее, он заявил, что неограниченное могущество полководца может стать гибельным для республики. Он утверждал — и Конвент согласился с его мнением, — что в стране должна быть
одна воля — воля избранников нации, по отношению к которой любая военная администрация и военная власть лишь подчиненная инстанция, обязанная безусловным повиновением суверену.
В то время одним из главных недостатков армии была ее неоднородность. Волонтеры, носившие синюю форму, вследствие чего их называли «васильками», сами избирали офицеров, получали высокое жалованье и нанимались на одну кампанию. Солдаты линейных войск, за белую форму прозванные «белозадыми», несли регулярную службу, подчиняясь суровой дисциплине и командирам, назначавшимся сверху. Между «васильками» и «белозадыми» существовал антагонизм: линейные презирали волонтеров и завидовали им.
Сен-Жюст явился одним из инициаторов национальной амальгамы. 12 февраля он обосновал проект слияния обоих типов войск: два батальона волонтеров объединялись с одним линейным батальоном в полубригаду, в которой солдаты сами избирали две трети командиров. Волонтеры, полагал Сен-Жюст, передадут линейным гражданскую доблесть, получив взамен мастерство и дисциплину.
— Победа зависит, — говорил Сен-Жюст, — не только от количества и дисциплины солдат; вы добьетесь ее, когда в армии восторжествует республиканский дух. Единство республики требует единства армии: у родины только одно сердце…
Речь Сен-Жюста была восторженно принята, докладчик был замечен и оценен; при первой возможности его использовали для ответственного поручения, связанного с войной.
24 февраля Конвент объявил призыв трехсот тысяч бойцов. Набор распределялся по департаментам. Хотя в принципе он считался добровольным, департамент отвечал за число бойцов и в случае нехватки должен был любым путем восполнить ее.
Можно было заранее предположить, что при наборе возникнут трудности. Чтобы сломить сопротивление департаментов, Конвент послал туда своих членов, облеченных весьма широкими полномочиями.
В числе таких посланцев оказался и Сен-Жюст.
Его спутником был назначен Жан Девиль, депутат от Марны, хорошо знакомый ему по дням юности. Адвокат по профессии, Девиль, некогда живший в Реймсе, практиковал студентов факультета права. В 1787 году у него, на улице Англе, поселился Сен-Жюст, которого Девиль вскоре стал считать своим самым способным учеником. Потом они встретились в Конвенте, оба осели на Горе; когда возник вопрос о командировке — а комиссары а провинцию посылались попарно, — остановили свой выбор друг на друге, и желание их было учтено.
Итак, с коллегой Сен-Жюсту повезло, а это уже значило немало. «Хороший компаньон — половина успеха дела», утверждает пословица. Антуану повезло и в другом отношении. Их командировали в департаменты Эна и Арденны, а Эна был ему дорог: там прошли его детство и юность, там остались Блеранкур и Шони — места, где его ожидали родные и верный Тюилье.
Но вот что странно: это двойное везение почему-то совсем не вдохновляло его.
Отъезд был назначен на 9 марта.
Восьмого вечером в доме Дюпле состоялись проводы. В гостиной собрались все близкие — члены семьи, оба Робеспьера, Кутон, Леба, художник Луи Давид, верный последователь Неподкупного.
Антуан испытывал чувство какой-то глубокой грусти, даже тоски. Он не понимал причины этого состояния. Ведь если он расставался с друзьями, то ненадолго, а впереди его ожидала та полная неожиданностей и непредвиденных трудностей жизнь, которую он так любил и к которой всегда рвался.
И все же ему было тяжело, по-настоящему тяжело.
Он скованно держался за столом, говорил мало, отвечал невпопад или даже совсем не отвечал на вопросы. В конце концов все от него отстали, но зато он стал ловить на себе беспокойные взгляды Элизы.
Улучив момент, когда общество было занято разговором, а Сен-Жюст, от которого только что отошел Леба, одиноко стоял, опершись о притолоку двери, девушка приблизилась к нему.
— Флорель, скажите, что с вами происходит?
Он кисло улыбнулся.
— Ничего, ровным счетом ничего, милая Элиза.
— Это неправда. Я ведь вижу, что вы не такой, как обычно. Вы чем-то опечалены?
— Я печалюсь о многом, Элиза. Но это совсем не должно вас беспокоить. Кстати, до каких пор мы будем обращаться друг к другу на «вы»?
Он сказал это не подумав и, увидев, как вспыхнула девушка, сразу пожалел о сказанном. И дернуло его, право! Она конечно же не так поняла…
Ее взгляд засиял; в нем светилось чувство.
— Флорель…
Он отвел глаза.
— Так значит, — сказала она тихо, — вы… то есть ты опечален нашей разлукой?..
И тут его обуяла злость. Злость на самого себя, на свою глупость, на ее любовь. Один из тех припадков злости, которые с ним случались не часто, но с которыми, когда они находили, он не мог совладать. В отличие от большинства, Антуан во время приступа ярости не орал, не буянил, не дрался, напротив, становился еще более сдержанным и спокойным, — разумеется, только внешне. Но его слова, сказанные в это время, могли испепелить собеседника.
Она ничего не поняла. Она все так же смотрела на него.
— Флорель, милый…
Сен-Жюст холодно взглянул на нее и сказал:
— Что вы себе вообразили, Элиза? Вы здесь абсолютно ни при чем…
Круто повернувшись и не простясь ни с кем, он быстро вышел из комнаты.
Робеспьер нагнал его во дворе.
— Ты очумел, что ли?
— По-видимому, очумел.
— Но это же свинство! Так наплевать в душу людям, которые тебе как родные…
Сен-Жюст смотрел спокойно и отчужденно.
Робеспьер схватил его за плечо.
— Стой, так нельзя, нам надо поговорить. Поднимемся ко мне.
Сен-Жюст не сопротивлялся: ему уже было все безразлично…
— Ничего не понимаю, — говорил Робеспьер, когда они при свете коптящей лампы сидели в его каморке. — Отравляться на такое дело и в таком настроении. Да не знай я тебя — решил бы, что трусишь.
Сен-Жюст молчал.
— Черт, да тебя ничем не проймешь, — сердился Робеспьер. — Ну неужели же, если оставить в стороне все остальное, тебя не радует близкая встреча с родными?
— Я не увижу их, — сказал Сен-Жюст.
— Это почему? Ведь ты же едешь в те края!
— Я не собираюсь их навещать. Объеду стороной.
После этого Робеспьер не задавал больше вопросов.
Он понял, что случайно коснулся темы, которой касаться не следовало. Теперь он говорил только о деле, давал советы, как раскрывать козни врага или недобросовестных администраторов.
Но Сен-Жюст не слушал его. Своим ответом Неподкупному он вдруг неожиданно открыл себе причину своей тоски. Да, конечно, у него так тяжело на душе потому, что он решил не заезжать к матери и не встречаться с Тюилье. Он пошел на это, боясь вновь увидеть
ее или услышать разговоры о
ней. И вот почему его так разозлила сегодняшняя глупая история с Элизой: он ведь действительно, что бы ни пытался внушить себе, все еще продолжал любить ту, другую…
…Это случилось в 1786 году, когда ему едва исполнилось девятнадцать лет. Окруженный женщинами — матерью и сестрами, не чаявшими в нем души, он вел жизнь молодого бездельника, праздного волокиты. Слухи о его амурных делах стали пищей для пересудов, и благонамеренные буржуа сторонились его как чумы. Поэтому когда случилось неизбежное, на счастливый конец рассчитывать он не мог.
Ее звали Тереза. Она была дочерью нотариуса, господина Желе, весьма уважаемого в Блеранкуре. Антуан влюбился впервые, влюбился до безумия. Девушка ответила взаимностью. Молодые люди строили планы на будущее; отношения их были возвышенны и вполне невинны. Антуан сделал предложение и… получил от родителей Терезы грубый отказ. Мало того. Обеспокоенный папаша Желе поспешил выдать дочь, невзирая на ее мольбы и слезы, за господина Торена, сына второго нотариуса Блеранкура, вскоре унаследовавшего должность отца. Тереза не любила глупого и напыщенного Торена. Страсть к юному Антиною, с которым ее насильно разлучили, не только не угасла, но запылала с большей силой. Кто был виноват в нарушении супружеской верности? Молодые влюбленные, стремившиеся к браку и законному наслаждению своей любовью, или родители, которые отказали им в этом?
Связь его с госпожой Торен была пламенной. Антуана не страшили ни гнев обманутого супруга, ни низкие интриги господина Желе, ни «общественное мнение». Но события 1789 года встряхнули Сен-Жюста. Он понял вдруг, что юные годы прожиты глупо, бездарно. Антуан почувствовал в себе иной, священный огонь и не хотел, чтобы он угас без пользы для людей. Новые лозунги революции воспринимались каждым его нервом, каждой клеткой тела. Какое-то время он делил себя между страстью к Терезе и страстью к свободе; затем вторая взяла верх. Да и верный друг Тюилье разъяснял перспективы: связь с чужой женой закрывала дорогу в будущее; что при старом порядке было естественным и даже почетным, теперь становилось позорным, несовместимым с революционной карьерой. Сен-Жюст понял это; он почувствовал вдруг потребность в нравственном очищении, он хотел оставить изношенные одежды там, по ту сторону рубежа. И оставил их там…
Жители Блеранкура долго судачили о странном поступке, который совершил их молодой земляк, выходя на революционное поприще. Бросив в огонь один из распространяемых врагами памфлетов, он публично дал патриотическую клятву, во время произнесения которой держал правую руку над горящими угольями… Именно отсюда начинались все общественные успехи Сен-Жюста, завершившиеся его избранием в Конвент. Но никто не знал, чем был вызван жест новоявленного Муция Сцеволы; никто не догадывался, что, произнося клятву верности свободе и равенству, молодой любовник одновременно отрекался от любимой, от нежной страсти, которую считал теперь позорной. Разрыв был мгновенным и окончательным: Антуан словно закрыл прошлое, не оставив к нему ни малейшей лазейки. И вот вдруг…
…Он стиснул голову до боли. К черту! Он оборвал эту проклятую связь и не вернется к ней никогда. Ну и кончено. Не думать, не переживать, все выбросить из сердца, как выброшено из головы. Но в родные места он все-таки не поедет: зачем бередить то, что еще так свежо?..
Они выехали девятого на заре. Пока экипаж катил по парижским улицам, Девилю хотелось уточнить и окончательно утвердить маршрут их поездки. Сен-Жюст согласился с этим.
Девиль был в отличном настроении и что-то мурлыкал себе под нос, отыскивая планы департаментов в своем необъятном портфеле.
— У нас прекрасное положение, — весело сказал он, — Срок миссии не оговорен, а полномочия преогромны: мы не только имеем право требовать повиновения всей местной администрации, но можем даже, выражаясь фигурально, казнить и миловать по своему выбору.
— Ни казнить, ни миловать мы не станем, — возразил Сен-Жюст, — время для этого не пришло. Поездка будет чисто инспекционной; мы обязаны все разглядеть, понять и представить Конвенту в истинном свете, а уж он пусть сам делает выводы и принимает меры; можно предположить, что и те и другие будут не в пользу нынешних хозяев положения — жирондистов.
— Быть может, ты и прав, — без энтузиазма согласился Девиль. — Но давай прикинем путь нашего следования. Конечно, начнем с департамента Эна, который тебе знаком, да и лежит у нас на дороге.
— Нет, — снова возразил Сен-Жюст. — В департаменте Эна все обстоит благополучно. Другое дело Арденны — прифронтовая полоса. Там уже побывал неприятель, а потому важно определить, в каком состоянии находятся пограничные крепости. Поспешим туда.
— Но ведь мы все равно будем проезжать через Эну, — не без раздражения ответил Девиль. — Почему же по пути не сделать дело, тем более что, как ты сказал, оно необременительно? К вечеру мы были бы в Суассоне и могли бы там заночевать.
— Мы заночуем в Шато-Тьерри, — безапелляционно сказал Сен-Жюст, — а завтра будем в Реймсе. Дай-ка сюда твою карту! Смотри: мы начнем с Реймса, оттуда через
Рокруа и Живе спустимся в долину Мааса и проедем вдоль линии Шарлевиль — Мезьер — Седан; это сразу введет нас в существо дела. О дальнейшем загадывать не будем. Я думаю, мой друг, — более мягко закончил Сен-Жюст, — с этим трудно не согласиться…
«Кажется, я одержал победу, — думал он, полулежа с закрытыми глазами на жестких подушках сиденья, — ты подчинился мне. Теперь все пойдет как по маслу. В Эну же мы не поедем ни сейчас, ни на обратном пути, я это твердо решил и не переменю своего решения».
В Реймсе они не задержались. Как ни хотелось побродить по городу, посмотреть знакомые места — факультет, собор, улицу Англе, Сен-Жюст, боясь потерять время, приказал двигаться дальше. Перед Ретелем еще раз ознакомились с цифрами и фактами, которые подлежали проверке.
Всего департамент должен был дать около трех тысяч бойцов. Это число раскладывалось на шесть дистриктов; Ретель самый населенный из них, отчитывался четвертью этой цифры. Комиссары разыскали ратушу, предъявили дежурному мандат и потребовали ответственных лиц во главе с мэром. Поскольку было раннее утро, члены городского совета спали; прошло с полчаса, прежде чем они начали появляться в ратуше. Сен-Жюст нервничал. «Это черт знает что, — ворчал он. — Мы даром теряем время, когда впереди столько дел». Наконец появился гражданин мэр; он начал с ходу оправдываться:
— Но, граждане, мы же не ожидали вас так скоро. Нам казалось, что вы начнете обследование с департамента Эна…
Девиль не сдержал улыбки.
— Дался же всем вам этот департамент Эна! — возмутился Сен-Жюст.
— Позвольте, гражданин, — продолжал мэр, — вот письмо от десятого марта, в котором нас извещают, что вас ждут в Лане…
Девиль снова улыбнулся.
— Достаточно об этом, — прервал мэра Сен-Жюст. — Ожидали вы нас или нет, мы перед вами, и извольте немедленно отчитаться.
Отчет оказался успокоительным: операция вербовки в дистрикте уже закончилась и дала требуемый контингент, причем мобилизация прошла вполне гладко.
— Единственное, что нас огорчает, — сказал в заключение мэр, — это отсутствие амуниции и оружия; новобранцы рвутся под знамена, а знамен все еще нет…
Экипаж комиссаров углублялся во внутренние районы департаментов. Проехали Ретелуа и Порсьен, славившиеся животноводством. Но домашней птицы нигде не было видно, скотина редко попадалась и была тощей, как, впрочем, и ее хозяева.
В Живе крепость оказалась не подготовленной к обороне. Большинство укреплений, срытых в предшествующую кампанию, не были восстановлены. Пушки ржавели в сараях. Гарнизон совершенно утратил строевой вид: караульной службы не было, зато всюду попадались пьяные солдаты и офицеры. Сен-Жюст вызвал начальника гарнизона и коменданта крепости. Те вели себя нагло.
— А вы чего беспокоитесь? — флегматично спросил комендант, от которого разило спиртным. — Ведь война от нас ушла прочь. Благодаря успехам Дюмурье республиканцы вторглись в Голландию!
— Вы забыли о воинской дисциплине, — сказал ледяным тоном Сен-Жюст. — За ваши действия положен расстрел перед строем!
— Ну уж это вы хватили, гражданин, — и глазом не моргнул комендант. — Мы делаем все по указанию начальства.
— И кто же ваше начальство?
— Сам гражданин военный министр.
— Так я и знал, — тихо сказал Сен-Жюст. — Бернонвиль — изменник!
— Вот сейчас бы, — так же тихо ответил Девиль, — воспользовавшись нашими полномочиями, отрешить и арестовать негодяев!
— Погоди, — прошептал Сен-Жюст. — Они не уйдут от возмездия. Но сейчас, отважься мы на такое, жирондисты обвинили бы нас в самоуправстве… Пока же запиши для памяти их имена…
Шарлевиль, Мезьер и Седан ничем не порадовали комиссаров. Повсюду они встречали ту же беспечность и отсутствие дисциплины.
— Да тут целый заговор! — возмущался Сен-Жюст.
— Очевидно. Прочти-ка, о чем пишет пресса!
…Уже повсюду писали о мятеже в Вандее, вспыхнувшем 10 марта. Дворянство и неприсягнувшее духовенство сумели использовать настроения крестьян, страдавших от кризиса и ненавидевших буржуазию, повинную в их бедствиях. Поводом к мятежу стал как раз декрет о наборе. А затем последовала ужасная резня в Машекуле, были зверски замучены мятежниками пятьсот национальных гвардейцев и мирных жителей… Тревожные вести шли из других департаментов. В Страсбурге ассигнаты упали почти до половины нарицательной стоимости. В Ньевре народные представители, встретившиеся с жестоким сопротивлением набору, были вынуждены поставить гильотину. В Морбигане мятежники захватили несколько городов, в том числе Рошфор, и комиссары Конвента с трудом локализовали смуту. Не лучше обстояло и на юге. В Лионе открыто готовилась гражданская война: пророялистские элементы закрыли местный клуб, разрушили статую Руссо и сожгли недавно посаженное дерево свободы. В Веле народные представители не смогли получить требуемого количества волонтеров и при этом встретились с вооруженным сопротивлением, в котором участвовало до двух тысяч местных жителей…
— Ну что, — улыбнулся Девиль, — видишь, мы далеко не в самом плохом положении!
— Это не утешает, — вздохнул Сен-Жюст, бросая газеты.
Он все пристальнее всматривался в жизнь края, по которому проезжал. Его тянуло к этой земле, свежей, пахучей, мартовской земле, так жаждавшей посева. В его памяти вдруг вспыхнул другой март, далекий месяц весны его детства… Тогда ему было года три-четыре, и он жил на ферме Морсан, у деда, управлявшего поместьями сеньора Бюа. Какая шла суета тогда: крестьяне готовились к самому важному событию весны. Сортировка семян, пахота, сев — все это оставило впечатление дружной, напористой работы, шумной деятельности большого числа людей… А здесь, в Арденнах? Ведь они с Девилем только что проехали плодородную долину Мааса, дававшую хлеб многим районам страны, и что же? Кругом могильная тишина, лишь каркают голодные вороны. Земли брошены, покинуты людьми. Не видать ни пахарей, ни лошадей, ни орудий труда… Антуан чувствует, как боль подступает к сердцу.
— Здесь еще почище, чем в Ретелуа и Порсьене! — говорит он коллеге.
Но коллега не услышал его: он мирно спал.
Двадцатого они прибыли в Гранпре. Было решено остановиться на несколько дней, чтобы подытожить сделанное. Сняли плохонький номер в гостинице и тут же погрузились в бумаги.
Сен-Жюст трудился с упорством, поражавшим товарища. Он не пошел обедать, довольствуясь куском хлеба, принесенным Девилем из харчевни. Ровно в четыре он встал из-за стола, расправил затекшую спину и подмигнул компаньону.
— Все в порядке, старый дружище. Хотя мы и решили не вмешиваться, одно постановление все-таки будет издано. Сейчас ты напишешь, что я тебе продиктую, а затем отправимся в ратушу. Скажи, на что ты обратил внимание в последние дни, после того, как мы выехали из Мезьера?
Девиль задумался.
— Честно говоря, ни на что. Кругом были бескрайние поля, а я уже порядком выдохся и предпочел дремать.
— То-то и оно. А если бы ты не спал, то увидел бы много важного. Поля-то пустые. В прошлом году здесь прошел враг, и урожай удалось собрать не везде. В результате на семена не осталось даже овса и ячменя. Я неоднократно слышал это от старост и землепашцев.
— Когда же ты успел?
— Пока ты спал. Надеюсь, понятно? Это двойная беда. Двойная потому, что голодать будет и население, и армия.
— Ты прав. Это катастрофа.
— Почти. К счастью, не подвела наблюдательность. Я заметил, что земли дворян-эмигрантов остались нетронутыми, а их амбары полны зерна.
— Ну и?..
— Ну и эти амбары следует открыть; тогда можно будет засеять все земли, в том числе и брошенные эмигрантами. Тогда поместья этих контрреволюционеров дадут нам средства для борьбы с контрреволюцией!
— Да ты, право, гений! — Девиль смотрел на коллегу с искренним восхищением. — Я всегда говорил, что ты на голову выше обычных людей… Но как ты додумался до всего этого?
— Я же сам из крестьян, мне ли не знать их нужды… Но довольно об этом. Сегодня мы напишем постановление и проведем его через администрацию Гранпре, завтра составим послание Конвенту и отправим его вместе с копией постановления. Итак, пиши…
…Да, сегодня впервые за много дней он чувствовал наконец удовлетворение. Он снял с себя вину перед бедняками в постыдном деле 12 февраля: теперь бородатый петиционер и его товарищи могли бы смотреть на него без презрения…
Но судьба редко дарует свою благосклонность на длительный срок. Хорошее настроение Сен-Жюста продолжалось недолго. На следующий день произошли события, радикально изменившие его планы.
Беженцы шли толпами, таща на тележках свой скарб. От них-то комиссары и узнали о поражении 18 марта при Неервиндене. Эпопея генерала Дюмурье заканчивалась полным провалом.
Генерал Дюмурье… Сен-Жюст видел его, когда в октябре 1792 года полководец приехал с фронта как триумфатор и был осыпан сказочными почестями. Жирондисты молились на него. А вот Антуану этот невысокий смуглый человек с мягким взором и вкрадчивой речью тогда не понравился. Не понравился он и Марату, имевшему особый нюх на изменников… Впрочем, о какой измене можно было говорить осенью 1792 года? Тогда Дюмурье, считавшийся спасителем отечества, был в зените славы: под его началом войска Северного фронта овладели Бельгией и оказались на пороге Голландии.
Зимняя кампания была менее успешной. Роялист в душе, Дюмурье уже в то время начал строить свои честолюбивые планы. Поглощенный ими, он переоценил противоречия в Конвенте и не рассчитал свои силы. Уже 1 марта австрийский главнокомандующий герцог Кобургский нанес неожиданное поражение французам в районе Рура. Республиканская армия стала отступать по всему фронту и в короткий срок оказалась вынужденной оставить не только Голландию, но и значительную часть Бельгии.
Неервинден подвел черту. Война стремительно возвратились к рубежам Франции.
Сен-Жюст сразу понял глубину опасности: пограничные крепости, голые и лишенные защитников, не могли препятствовать вторжению. Нужно было срочно бить тревогу там, в Париже, — в Клубе, в Конвенте.
— Нам надо заканчивать, — сказал он Девилю.
— А департамент Эна? — наивно спросил тот.
Сен-Жюст вскипел.
— К черту департамент Эна! К черту тебя вместе с ним! Поспешим в Париж. В Эну же сможешь, коли так желаешь этого, вернуться потом в одиночестве…
6
В столицу прибыли тридцать первого к вечеру.
Сен-Жюст отправил Девиля с документацией в Комитет обороны, сам же помчался к Якобинцам. По дороге встретил кое-кого из своих. Ему рассказали, что столицу давно лихорадит: Париж догадался о кознях Дюмурье в самом начале. Уже 9 марта здесь стало известно о первых поражениях в Голландии. Патриоты разгромили редакции нескольких жирондистских газет. Неподкупный в Конвенте потребовал немедленного отозвания Дюмурье. Пытаясь сгладить положение, Дантон заявил, что «образумит» генерала. Кого уж тут было образумливать!..
В Клубе его встретили восторженно.
Выступив первым, Сен-Жюст обвинил Бернонвиля в измене. Он рассказал о состоянии крепостей, об отсутствии оружия и снаряжения, о продовольственных трудностях и выразил опасение, что Арденны не смогут сдержать натиск врага.
— Если меня не пожелают услышать в Комитете обороны, — заключил он, — и если Комитет не примет срочных мер к спасению отечества, я снова вернусь в угрожаемые районы и сам проведу эти меры!..
Якобинцы устроили овацию Сен-Жюсту.
Робеспьер, опоздавший к началу заседания, крепко обнял друга.
— Ты герой дня, — сказал он, внимательно разглядывая Антуана. — Ты увидел и почувствовал, как любят тебя якобинцы. Но этого мало. Сегодня ты самый популярный депутат Конвента.
— Не выношу, когда надо мной издеваются, — нахмурился Сен-Жюст.
— Завтра ты сам убедишься в этом.
— Какова же причина подобной популярности?
— Все объясняется просто. Копия вашего постановления и сопровождающее письмо прибыли в Конвент 25 марта, когда обсуждались проблемы, связанные с весенним севом. Твои реляции были прочтены, благожелательно обсуждены, и в тот же день появился декрет о принудительном севе на эмигрантских землях. Итак, ты движешь революцию!..
— Еще раз прошу, не издевайся.
— И не думаю. Однако мне пора. Поговорить успеем завтра.
На следующий день Антуан пришел в Манеж задолго до начала заседания. В кулуарах толпились депутаты. Многие, даже незнакомые, приветствовали его, жали руку, улыбались. Появился Робеспьер. Он глянул по сторонам, схватил Сен-Жюста за локоть и оттащил в сторону.
— Ну что, видел? — спросил он. И тут же, не дожидаясь ответа, задал новый вопрос: — Ты знаешь, что здесь будет сегодня?
— Откуда я могу знать?
— Здесь произойдет коррида. Быками будут Дантон и Марат. Пикадорами и эспада — жирондисты. Исход боя, надо надеяться, станет смертельным не для быков.
Сен-Жюст поморщился.
— Неизящно? — рассмеялся Робеспьер. — Не я тому виной. Если бы ты посмотрел, что здесь делалось! Видишь ли, наш Марий
[10] всегда тяготел к этим «государственным людям», как их величает Марат, к господину Бриссо и компании.
— Я тебе первый сказал об этом.
— Ты действительно говорил об этом, но я знаю здесь больше тебя, поскольку столкнулся с сим фактом еще на заре Законодательного собрания. Так вот, недавно Дантон, бессильный справиться со своим темпераментом, все испортил себе: на одном заседании он заявил, что вместе с Роланом заседала его жена…
— Я был при этом заявлении.
— Значит, помнишь и результат: жирондисты взбеленились. Эти рафинированные господа не могли простить мужлану его грубость, которая, в сущности, не была грубостью. С тех пор они цепляются к нему. Тебе известно, что недавно умерла жена Дантона?
— Не имел счастья знать гражданку Дантон.
— А я знал ее. Это была прекрасная женщина, добрая и домовитая.
— То-то он с Демуленом таскался по грязным притонам Пале-Рояля.
— Не говори так. Она действительно была достойной женой и хозяйкой; я тогда часто бывал у них. Она умерла, когда Дантон был в Бельгии, и жирондисты косвенно виноваты в ее смерти.
— Жирондисты? Каким образом?
— Габриэль Дантон была тяжело больна. Она ежедневно, лежа в постели, просматривала газеты. А эти злодеи — ты ведь знаешь их стиль — в своей прессе поносили Дантона и даже угрожали ему смертью. Это потрясло больную: ее сердце не выдержало… Впрочем, это лишь часть дела. Сейчас они пошли на ловкий трюк. Дискредитированные изменой Дюмурье…
— Постой, разве его измена доказана?
— Прослушай первый доклад на утреннем заседании и все поймешь. Как раз в день твоего прибытия Конвент решил потребовать его к ответу. В ставку посланы военный министр и четыре комиссара…
— Ого! Предатель Бернонвиль будет арестовывать предателя Дюмурье!
— Если Бернонвиль предатель, то он заплатит за это сполна; уверен, ему придется несладко… Но ты перебил меня. Я хотел сказать, что, изобличенные изменой Дюмурье, о мифических победах которого они до последнего дня трещали в своих газетах, теперь, перекладывая с больной головы на здоровую, они пытаются во всем винить Дантона.
— Дантон действительно дружил с Дюмурье. Я видел, как он расшаркивался перед генералом. Дважды наблюдал их рядом в ложе театра.
— Не стану спорить. Но они-то повинны в гораздо большей степени, а Дантон осознал свои ошибки. Мало того. Сейчас он снова с Маратом, от которого открещивался несколько месяцев назад. Итак, наш Марий вдруг почувствовал в себе исполинскую силу и стал крушить их. Они обвинили его в подстрекательстве к беспорядкам, и он потребовал, чтобы богачи жертвовали своими богатствами. Кроме того, он потребовал создания Чрезвычайного трибунала, за который секции и Коммуна ратуют с восьмого марта и который санкюлоты уже величают Революционным трибуналом.
— И что же?
— Конвент, несмотря на бешеное сопротивление жирондистов, в тот же день десятого марта декретировал предложение Дантона.
— Это здорово. Это нож им в спину.
— Верно. Но это только начало. Я полагаю, главное произойдет сегодня. Однако мы заговорились: слышишь звонок председателя?..
И правда, зал был полон, все сидели на своих местах, и председатель только что поставил колокольчик на бюро.
Один из секретарей читал отчет троих депутатов, побывавших на главной квартире Дюмурье.
«Спаситель Франции» совершенно распоясался. Он не находил нужным скрывать свои планы, рассчитывая завлечь собеседников в свою авантюру. «Я, — кричал он, — спасу Францию вопреки Конвенту, и пусть меня величают Цезарем, Кромвелем или Монком… Конвент! Да ведь это сборище семисот сорока пяти тиранов! Я смеюсь над их декретами…» Он признавался, что намерен идти на Париж и разогнать Конвент. «Ваши якобинцы, — сказал он напоследок, — могли бы прославиться и снять с себя свои преступления. Пусть заслонят своими телами королевскую семью, поднимут в Париже восстание… Я же тем временем двинусь с армией и провозглашу короля…»
Всем стало ясно, что военный министр и комиссары посланы зря
[11]…
Но вот на трибуне Лacypc, один из яростных лидеров Жиронды.
— Дюмурье замыслил контрреволюцию, — говорит он. — Можно ли верить, что у него нет сообщников?
Оратор их выявляет. Разве ближайшим другом мятежника не был Дантон? Разве не он защищал заподозренного генерала и пытался смягчить значение его «ошибок»? Разве не он вместе с Делакруа, бахвалясь своим патриотизмом, подыгрывал Дюмурье в его попытках унизить Конвент?
Лacypc поднимает правую руку и дает клятву, что всякий попытавшийся стать королем или диктатором будет наказан смертью. Он предлагает депутатам повторить его клятву, и депутаты послушно проделывают это: никто не хочет быть заподозренным в скрытом роялизме.
— Хитер, мерзавец, — шепчет Робеспьер.
Бирото спешит уточнить намек Лacypca. Он заявляет, что сам слышал, как друг Дантона Фабр предлагал его в короли…
Страшное обвинение! Отовсюду слышатся ропот и крики гнева.
— Это подлость! — не выдерживает Дантон. — Короля-то ведь стремились спасти вы, а преступления свои хотите навалить на нас!
Умеренный Дельма предлагает передать вопрос в специальную комиссию. Ловкий ход: Дантон сразу попадает в положение обвиняемого!
Нет, этого он не допустит. Раскидывая всех на своем пути, титан мчится к трибуне.
Жиронда не желает давать ему слова: пусть оправдывается перед комиссией! Но тут вскакивают монтаньяры. С Горы несутся крики:
— Не робей, Дантон! Покажи им!
Дантон на трибуне. Он поднимает свое выразительное лицо к верхним рядам амфитеатра.
— Прежде всего я должен воздать должное вам, граждане, сидящие на этой Горе: вы видели лучше, чем я. Вы обвиняли меня в слабости и были правы, признаю это перед лицом Франции!..
— Ну, каково? — спрашивает Робеспьер, удовлетворенно потирая руки. — Вот это ход, не правда ли?
Откровенность Дантона подкупает. Симпатии большинства на его стороне. И, видя это, трибун начинает контратаку.
— Кто здесь обвинители? — грохочет он. — Да это те же, кто всяческими вероломствами и ухищрениями пытались спасти тирана!
Это удар. Они ждали его, но что же можно ему противопоставить?
На скамьях Жиронды растерянность.
Монтаньяры снова поднимаются. Они горячо аплодируют. И тут к низкому голосу Дантона вдруг присоединяется высокий голос, вступающий в перекличку с оратором. Это Марат. Он горяч и нетерпелив. Забыл ли Дантон чье имя — Марат подсказывает его, не привел характерную деталь — Марат торопится ее привести.
Дантон упоминает о патриотах, павших вследствие козней жирондистов.
— Лепельтье,
[12] — подсказывает Марат, — Мишель Лепельтье!
Дантон говорит об их переписке с Дюмурье.
— Есть письма Жансонне! — уточняет Марат.
Дантон говорит об интригах жирондистов.
— А их интимные ужины? — напоминает Марат.
— Они устраивали тайные ужины с Дюмурье! — подхватывает Дантон.
— Ласурс, Ласурс принимал в них участие! — восклицает Марат, потрясая кулаком. — О, я изобличу этих заговорщиков!..
— Он шпорит Дантона, словно всадник коня, — улыбнулся Робеспьер.
— Да, — ответил Сен-Жюст, — похоже, быки превращаются в матадоров.
Между тем оратор подходит к выводам. Он снова обращается к Горе:
— Хотите услышать слова, которые будут ответом на все?
— Да, да, требуем этого! — кричат монтаньяры.
— Великолепно. Тогда слушайте! Я думаю, что больше нет ни мира, ни перемирия между патриотами-монтаньярами, настаивавшими на смерти тирана, и негодяями, которые хотели его спасти, чем опозорили нас перед всей Францией!
— Вот он и добрался до сути дела, — заметил Неподкупный.
Аплодисменты сотрясают своды зала. Монтаньяры стоя кричат:
— Мы спасем отечество!
Слышен голос Марата:
— Да, мы спасем отечество, мы будем поражать изменников, где бы они ни окопались: среди депутатов, министров, генералов. Будем же всюду поражать изменников!..
Это заседание имело весьма важные последствия.
4 апреля Конвент принял на себя управление армиями и послал на фронт восемь комиссаров с широкими полномочиями; они были обязаны подготовить крепости к обороне и установить контроль над генералами. Бернонвиль на посту военного министра был заменен Бушоттом, человеком трудолюбивым и преданным революции. Потом принялись за жирондистский Комитет обороны. Комитет давно вызывал упреки; состоявший из 25 членов, он носил характер совещательного учреждения: в нем много говорили, но мало делали. 5 апреля начались прения по вопросу его реорганизации. Жирондисты отчаянно сопротивлялись и снова кричали о «диктатуре». Тогда Марат бросил фразу, ставшую крылатой:
— Свободу должно насаждать силой; настал момент, когда деспотизм свободы сметет с лица земли деспотизм королей!..
6 апреля Конвент издал декрет о замене Комитета обороны
Комитетом общественного спасения. Он состоял из девяти членов, избираемых Конвентом и переизбираемых ежемесячно. Совещания его были тайными. Он наблюдал за администрацией и контролировал министров; на плечи его ложилась и оборона страны. В состав его вошли Дантон, близкие к нему монтаньяры Делакруа и Барер, а также шесть представителей «болота». Это было страшное поражение Жиронды.
— Теперь народ добьет ее, — сказал Робеспьер. — Впрочем, сейчас мы должны показать Франции, что кипящая в Конвенте борьба — не борьба страстей, а борьба идей: самое время заняться будущей конституцией.
7
Со времени его первого политического труда проблема общественного договора постоянно волновала Сен-Жюста. Потому он и рвался в Конвент, что Конвент был избран с единственной целью — сформулировать и принять основной закон свободной Франции; это было завещано восстанием 10 августа, низвергшим вместе с королевской властью и устаревшую цензовую конституцию. Но Конституционная комиссия, состоявшая из жирондистов, раскачивалась медленно: только 15 февраля Кондорсе представил от ее имени проект, встреченный весьма сдержанно. В Якобинском клубе Кутон подверг его резкой критике, отметив, что вариант Кондорсе мало чем отличается от конституции 1791 года, будучи абстрактным, схоластичным и во многом антинародным. Тогда-то Сен-Жюст и углубился в конституционные проблемы. События марта отвлекли его; снова и с еще большим упорством он погрузился в них с начала апреля.
Вопрос Робеспьера, читал ли он трактаты Руссо, задел Антуана: произведения Жан-Жака были для него родными и близкими, с ними он познакомился еще в ранней юности, а затем тщательно изучал их в студенческие годы в Реймсе. Именно Руссо открыл ему глаза на естественное право, народный суверенитет и добродетель.
Добродетель… За нее Сен-Жюст был особенно благодарен великому философу. Понятие это как бы разделило его жизнь на две части…
…Дело происходило в 1786 году, когда он получил отказ отца Терезы. Это убило его. Озлобленный, он не желал больше видеть блеранкурских обывателей, терпеть сплетни у себя за спиной и чувствовать долгие насмешливые взгляды. Он решил бежать. В ночь с 8 на 9 сентября он взял фамильное серебро матери, продал его в Париже за бесценок, после чего был задержан комиссаром полиции и помещен в одно из самых строгих исправительных заведений, в интернат госпожи Коломб на улице Пикпюс, где томился долгие четыре месяца — целую треть года… До постижения добродетели он был себялюбцем, презирающим все и всех, не знающим, что такое совесть и честь, готовым обмануть. Но зато после постижения, поднятый на крыльях революции, которая в его глазах была лишь воплощением мыслей Жан-Жака, он полностью порвал с прошлым, без тени сожаления уничтожил память о нем и всем сердцем, всеми помыслами и чувствами отдался добродетели, которой твердо решил посвятить дальнейшую жизнь. Именно поэтому ему сделался так неприятен легкомысленный Демулен, товарищ юношеских забав, остававшийся и теперь по ту сторону рубежа, несмотря на старание петь гимн новому. Именно поэтому ему стал так близок Робеспьер, который лучше других понимал Руссо и следовал его предначертаниям, считая добродетель основой сознательной жизни. Что же здесь удивительного? Антуану, познавшему добродетель, стал ненавистен порок, и, повторяя жест Муция Сцеволы, он дал страшную клятву бороться с пороком до конца.
Добродетель… Если бы Сен-Жюста попросили определить это понятие, он вряд ли сделал бы это: он постигал добродетель больше чувством, нежели умом. И все же он без труда мог выделить главное, что ее характеризует. В основе добродетели, полагал Сен-Жюст, находится индивидуальная и коллективная нравственность. Нравственно же то, что отвечает интересам большинства: любовь к справедливости, к родине, к своему народу, постоянное стремление жить интересами этого народа. Нравственно, когда желание одного лица совпадает с желанием остальных; индивидуальная воля должна поглощаться общей волей, волей народа. Следовательно, народ всегда добродетелен и справедлив. Напротив, всякая злая воля — воля отдельных испорченных, безнравственных лиц — противостоит воле народа, а значит, и добродетели. Отсюда Сен-Жюст делал вывод, что все заставляющее индивидуальную волю отклоняться от общей воли, любая обособленность, келейность, оторванность от народа противоречит добродетели и подлежит устранению.
В этом выводе он почерпнул приговор Жиронде. На этих же принципах строились его представления о конституции республики.
Главная функция республики, полагал Сен-Жюст, состоит в защите добродетели. Добродетель народа является гарантией прочности правительства, а добродетель правительства должна гарантировать свободу народа. Фундаментом основного закона, венчающего царство добродетели, должны стать единство, свобода и равенство.
Единство — первый залог добродетели. Единство воли, единство морали, единство территории — не в этом ли сущность революционного народа? А жирондисты, пытающиеся поднять значение департаментов, отделить Париж от нации и создать искусственные противоречия между частями страны, не совершают ли уже одним этим тягчайшего преступления? Разве департаменты и Париж только территориальные единицы, разве это не части единого суверена? Кровь бойцов столицы, пролитая за революцию, разве отличается от крови бойцов провинции, пролитой за то же дело свободы?..
Свобода, святая свобода! Чего бы стоила добродетель без нее? Не больше, чем свобода без добродетели. Одна связана с другой, существовать порознь они не могут. Но если добродетель по своей природе активна, то свобода пассивна: она не действует, но противится действию. И правда, разве свобода не есть сопротивление гнету и завоеванию? Свобода, пытающаяся завоевывать, теряет смысл, полагал Сен-Жюст. Именно исходя из этого, он осуждал внешнюю политику жирондистов, пытавшихся насильственным путем привить свободу монархической Европе.
Идея свободы близка идее закона, поскольку свобода повинуется разумным, справедливым законам в той же мере, в коей рабство зависит от законов несправедливых.
И точно так же, как закон равен по отношению ко всем гражданам, свобода не может подчиняться одному человеку: в этом случае она превратилась бы в свою противоположность — в тиранию. Свобода должна быть не только полной, но и всеобъемлющей: свобода личности и народа не может иметь места без свободы совести, а последняя немыслима без свободы слова и печати.
И наконец, равенство.
Когда-то, во времена «Духа революции и конституции», плененный учением Руссо о народном суверенитете, он верил в политическое равенство как в конечную цель революции и основу демократической конституции. Поскольку каждый член нации есть равная часть суверена, думал Антуан вслед за своим учителем, между людьми не может быть иных различий, кроме добродетели и таланта. Что же касается имущественного равенства, то он считал его не только недостижимым, но и опасным, ведущим к анархии и распаду общества. Однако, когда он стал депутатом Конвента, когда в качестве народного представителя побывал в провинции и лучше понял жизнь, появились сомнения. Действительность показала Сен-Жюсту, что политическое равенство — далеко не все насущно необходимое для счастья народа. Народ хочет не только равенства перед законом, но и хлеба, а где взять хлеба, если его припрятал богатый собственник? И тогда, окинув единым взглядом прошлое и настоящее, Сен-Жюст вдруг понял, что на всех этапах революции именно санкюлоты, бедняки, люди труда толкали ее вперед, в то время как богачи, крупные буржуа и владельцы земли старались ее придержать.
Так было в эпоху Учредительного собрания,
так было при Законодательном собрании,
так продолжалось и теперь, во время Конвента. Но зачем же, коль знаешь это, бережно относиться к собственности и ломать из-за нее копья? Нет, теперь Сен-Жюст ни за что не повторил бы слов об экономической свободе, сказанных 29 ноября. Теперь он понимал, что в охране нуждается не собственность, а труд, которым создаются материальные блага, не богачи, трясущиеся над прибылями, а производители, составляющие армию революции. Теперь он считал, что надо нажать на богача, заставить его оплачивать не только расходы республики, но и тяготы бедняка. Все это привело его к необходимости переосмыслить свои старые взгляды на равенство. И тут на помощь ему пришел Неподкупный.
Он часто вспоминал разговор с Робеспьером после казуса с петиционерами; одна оговорка Максимильена насторожила его, и позднее он снова возвращался к ней мыслью. Заявив, что возврат к золотому веку полного равенства невозможен, Робеспьер на вопрос Сен-Жюста: «Ты так думаешь?» — ответил: «Так думал Руссо». Это Антуану было известно не хуже, чем другу. А вот что думал по этому поводу сам Робеспьер?.. Тогда Максимильен не стал объяснять свою точку зрения, да Сен-Жюст и не просил об этом. Но потом они часто возвращались к разговору в связи с проектом Жиронды. И Сен-Жюст с радостью убедился, что у него и у Максимильена полное единство взглядов на собственность и равенство. Как-то, вскоре после 15 февраля, Неподкупный сказал ему:
— В своей критике проекта Кондорсе Кутон абсолютно прав. Но, к сожалению, он отметил лишь второстепенные изъяны. Между тем в проекте есть куда более существенный дефект.
— Какой же? — спросил Сен-Жюст.
— Определение собственности. Ты помнишь его?
— Приблизительно.
— Я помню дословно: «Право собственности состоит в том, что человек волен располагать по собственному усмотрению своим имуществом, капиталами и продуктами промысла». Тебе не кажется, что подобная формулировка порочна и антинародна? Ведь каждый слой общества понимает собственность на свой лад. Для рабовладельца это рабы, для помещика — крепостные, для короля — подданные. Не представляется ли тебе, что жирондистское определение приемлемо для всех категорий собственников?
— Пожалуй.
— А если так, не следует ли из этого, что их проект написан не для простых людей, а для угнетателей, богачей и тиранов?
— Ты прав.
— Это несомненно. Настоящий революционер и защитник народного дела понимает, что право собственности условно, что собственность имеет различные формы и разный удельный вес в разном обществе, причем по мере того, как общество совершенствуется, собственность отступает и стушевывается, и в далеком будущем она, возможно, потеряет всякое значение.
Сен-Жюст крепко пожал руку друга. Да, Неподкупный обладал изумительной способностью формулировать мысль, придавать ей кристальную ясность…
— Ты открыл великую истину! — прошептал Антуан.
— Я всего лишь сделал свой вывод из учения Руссо, — улыбнулся Робеспьер. — Ведь очевидно, что право собственности, как и все другие права, должно быть ограничено обязанностью уважать чужие права и не может служить к ущербу безопасности, свободы, существования, наконец, собственности остальных людей. Всякое же владение, как и любая сделка, нарушающее этот принцип, на мой взгляд, незаконно и безнравственно. Эту мысль я намерен положить в основу речи, которую собираюсь произнести 24 апреля…
24 апреля день был напряженный.
Борьба между Горой и Жирондой достигала кульминации. Не ограничиваясь частными выпадами, Бриссо и другие теперь апеллировали к целой Франции, Франции предпринимателей и богатых торговцев. Верньо и Гюаде направляли пламенные призывы к департаментам, а Петион будоражил зажиточных парижан. Всю силу огня в Конвенте жирондисты сосредоточили на Марате. Воспользовавшись, что многие монтаньяры находились в миссиях, еще раз склонив нерешительное «болото» на свою сторону, они провели обвинительный декрет против журналиста. И вот сегодня одновременно с заседанием Конвента слушалось его дело в Революционном трибунале. Естественно, многие депутаты, несмотря на важность обсуждаемой темы, нет-нет да и поглядывали на дверь, ожидая вестей из Трибунала: они понимали, что приговор присяжных либо осложнит, либо облегчит их задачу, А задача была не из легких. Что могли противопоставить они блестящей речи Робеспьера, изничтожившего с трибуны Конвента их Декларацию прав? Тем более что ему аплодировала не только Гора, но и значительная часть «болота»?..
Но вот Неподкупный произносит последнюю фразу:
— Можно сказать, что ваша Декларация составлена для узкой группы, маленького людского стада в уголке земли, а не для той необъятной семьи народов, которой природа подарила весь мир!..
Среди продолжающихся оваций на трибуну поднимается Сен-Жюст. Он сознает трудность положения: после речи Робеспьера чем поразит он слушателей, чем привлечет их внимание? Но, не смущаясь этим, он говорит спокойно и уверенно:
— В дни суда над тираном все тираны обратили к нам взоры; ныне, когда вы обсуждаете свободу мира, на нас любуются народы мира, составляющие истинное величии земли… Новая конституция будет вашим ответом друзьям и врагам, манифестом вашей доброй воли. С ее принятием утихнут раздоры, исчезнут клики, труженики вернутся в свои мастерские и мир, установившийся в республике, заставит дрожать королей…
Он искренно верит своим посулам, и вера его передается значительной части депутатов. Он раскрывает главную идею конституции: единство страны, управляемой всеми гражданами посредством свободной подачи голосов; выборность всех ответственных должностей, благодаря чему избиратели контролируют правительство, администрацию, судебные и военные власти; общенародное обсуждение во всех случаях, когда закон устаревает и подлежит замене; унитарность конституции, ее целостность, убедительность, простота…
Выявив принципы, он предлагает Конвенту свой проект.
Сен-Жюст вовремя закончил речь. Не успел он спуститься с трибуны, как в зал вошел жандарм. Нагнувшись к председателю — по иронии судьбы им был Ласурс, — жандарм что-то шепнул. Лицо председателя исказилось; в ответ на требования депутатов он с дрожью в голосе сообщил, что Марат, оправданный Трибуналом, возвращается в Конвент…
Раздались возгласы радости и возмущения. Многие жирондисты в ужасе кинулись к дверям, но было поздно: появился Друг народа, сопровождаемый ликующей толпой.
— Начинается последний тур дебатов! — усмехнулся Робеспьер.
— Дебаты окончились, — серьезно ответил Сен-Жюст.
Ставка жирондистов на «законность» была бита.
«В этот день, — вспоминал позднее Марат, — я затянул им веревку на шее».
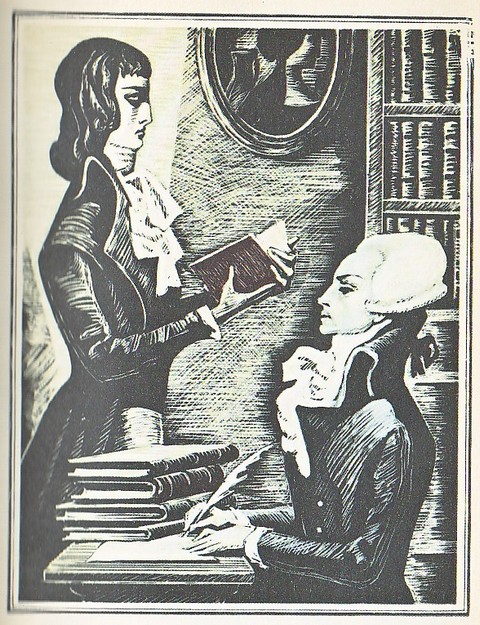
А дальше? Дальше с Сен-Жюстом произошло примерно то же, что случилось с ним после речи по делу короля: он охладел к ближайшему будущему, не представлявшему больше загадок.
Уже 15 апреля 35 секций при поддержке Коммуны потребовали изгнания из Конвента 22 лидеров Жиронды; дело Марата ускорило развязку. Главным очагом возмущения стал бывший епископский дворец, в котором собирались «бешеные». После ряда бурных совещаний было решено прибегнуть к «чрезвычайным мерам». Был сформирован Повстанческий комитет, начавший переговоры с Коммуной. Восстание могло разразиться со дня на день.
Сен-Жюст не принимал участия в его подготовке. Он продолжал заниматься конституционными проблемами. Во второй половине мая он еще дважды выступил в Конвенте, поддержав принцип неделимости республики, который оспаривали жирондисты.
Все это еще больше усилило его авторитет в Конвенте. На него стали смотреть как на виднейшего специалиста в области законодательства.
Сен-Жюст был введен сначала в Конституционную комиссию, а затем и в Комитет общественного спасения, на который была возложена задача окончательной разработки проекта новой, демократической конституции.
В Комитет Сен-Жюст пришел 30 мая — ровно за три дня до падения Жиронды.
8
Падение Жиронды…
Странно сказать, но событие это, столь яркое и долгожданное, прошло мимо Сен-Жюста, почти не оставив следа в памяти.
Нет, конечно, он помнил и день 31 мая, и день 2 июня; как сейчас, видел перед собой и народную армию, тесным кольцом окружившую Конвент, и ощерившиеся жерла орудий, и взметнувшуюся к небу саблю Анрио. Он не забыл обстановку в самом Конвенте: лихорадочное возбуждение Марата, уклончивость Дантона, перекошенное лицо Верньо и это голосование, отдавшее под домашний арест тридцать два лидера Жиронды. Разве можно было забыть такое? И все же он смотрел тогда на заключительный акт борьбы Горы и Жиронды словно чужими глазами: для него это было прошлое. Он целиком отдался новой деятельности.
30 мая он вместе с Кутоном и Эро де Сешелем был избран в Комитет общественного спасения на правах члена-адъюнкта; через неделю стал полноправным членом; еще через такой же срок возглавил Военную секцию Комитета. И с этого дня он стал юридически и фактически членом правительства.
Дел у него было по горло. Нужно было завершить работу над демократической конституцией, ведь ради этого его и выдвинули в Комитет. И тут он столкнулся с непредвиденным. Комитет общественного спасения неофициально именовали «комитетом Дантона», поскольку Дантон играл в нем главную роль. К Дантону, который представлялся ему политиком, неразборчивым в средствах, Антуан с давних пор испытывал антипатию. Не смог поладить он и с одним из ставленников Дантона.
Эро де Сешеля называли «красавчик Эро». Он был лет на шесть старше Антуана. Судьба ничем не обделила этого утонченного сибарита — ни внешностью, ни состоянием, ни положением в обществе. Выходец из сановной знати старого режима, двоюродный брат фаворитки королевы, генеральный прокурор парижского парламента, в революции Эро ловко плыл по течению: представитель умеренных конституционалистов, он вовремя перемахнул от них к жирондистам, от которых не менее своевременно перешел к монтаньярам. Обладая образованием и умом, Эро слыл человеком, преданным революции. В Комитете он сразу же взял на себя основной труд по составлению новой конституции; он использовал проекты Сен-Жюста и Робеспьера, но таким образом, что наиболее важные места оказались выхолощенными и потеряли свою остроту.
Присматриваясь к Сен-Жюсту, Эро начал было набиваться ему в друзья. Перешел на «ты», хитро подмигивал во время заседаний, а однажды, оставшись с Антуаном наедине, хлопнул его по плечу и сказал:
— Поедем в веселую компанию. Будешь благодарить всю жизнь.
Сен-Жюст знал о страшной развращенности Эро и наслышался вдоволь о его «веселых компаниях». Невольно он покраснел.
— Я занят, Эро, — сказал он.
«Красавчик» так и прыснул.
— Ох насмешил, право же насмешил. Кому ты врешь, дружок?
Сен-Жюст старался говорить спокойно.
— Я не вру, Эро. Я действительно занят.
Эро стал серьезным.
— Ты что, хочешь помереть прежде времени?
Краска мигом сошла с лица Сен-Жюста.
— Кто когда умрет — неизвестно. Однако, гражданин, договоримся раз навсегда: я не желаю иметь с вами ничего общего.
Эро отскочил как ошпаренный. Больше к Сен-Жюсту он уже не обращался.
«Подрабатывая» проект конституции, Эро убрал из статьи Робеспьера все, что касалось условного характера собственности; теперь статья эта ничем не отличалась от забракованного проекта Кондорсе.
Возмущенный Сен-Жюст пытался спорить, но его никто не поддержал.
— Сейчас не стоит обострять положение, — сказал Дантон.
Больше всего Антуана удивило, что сам автор первоначального проекта во время прений в Конвенте ни словом не обмолвился в защиту своей изуродованной статьи, а в Якобинском клубе сказал:
— Я не рассматриваю конституцию как законченный труд; я сам бы добавил народные статьи, которых ей недостает. Но ее нужно одобрить немедленно в том виде, как она есть, чтобы дать достойный ответ клеветникам, упрекающим нас в стремлении к анархии!..
В ответ же на все возражения возмущенного Сен-Жюста Робеспьер ответил словами Дантона:
— Сейчас не стоит обострять положение… Или ты не видишь, что делается вокруг?..
Сен-Жюст видел. И тут впервые в голову ему пришла мысль, показавшаяся сначала кощунственной: «А ведь верно, чего я так беспокоюсь? Не ясно ли, что эта конституция, в том или ином виде, не станет действующим документом? Разве не очевидно, что сейчас никакая конституция не может быть применима?..»
Да, он прекрасно видел происходящее, и тайный смысл всего стал ему особенно ясен после того, как он возглавил Военную секцию, тем более что его и Кутона нагрузили общей корреспонденцией, а затем ввели в состав комиссии по борьбе с Вандеей.
В тысячах писем, прошедших через его руки, он слышал вопль, непрерывный вопль отчаяния.
Никогда еще от начала
революции Франция не находилась в таком безмерно тяжелом положении, как в эти летние месяцы 1793 года. Лидеры Жиронды, помещенные под нестрогий домашний арест, поспешили бежать. Прибыв в свои департаменты, они зажгли там пламя антиправительственных мятежей. Это совпало с расширением роялистской контрреволюции, охватившей весь запад страны. А с севера, востока и юга в ее пределы устремились пять армий иностранных государств, составивших антифранцузскую коалицию. И вот в то время, как жирондисты вооружали Нормандию, возбуждали Бордо, поднимали Марсель и становились фактическими союзниками роялистов Вандеи, департаментов Лозера, Вогезов, Юры и города Лиона, громадная армия австрийцев и голландцев окружила Конде и бомбардировала Валансьен, пруссаки обложили Майнц, Савойя и Ницца ожидали вторжения войск Пьемонта, а испанцы были на пути к овладению Русийоном.
С другой стороны, рядовые санкюлоты — победители 2 июня, благодаря натиску и силе которых Гора оказалась у власти, не собирались успокаиваться. «Бешеные», недавние союзники монтаньяров, видевшие полную неэффективность закона о максимуме цен на зерно,
[13] добивались всеобщего максимума — установления твердых цен на все продукты первой необходимости. Они требовали дополнения проекта конституции статьями, карающими скупку и спекуляцию, а также широкой чистки генералитета и административных органов республики, устранения бывших дворян и удаления из Конвента всех оставшихся там жирондистов.
Неподкупный в полном согласии с Маратом и Дантоном считал, что в этих условиях наряду с карательными необходимы и «успокоительные» меры. В июне — июле Конвент издал три декрета, ставившие целью привлечь крестьян: им возвратили общинные земли, дали возможность увеличить участки за счет льготной распродажи эмигрантских поместий и безвозмездно отменили все феодальные повинности. Демократической конституцией в ее новом варианте Конвент рассчитывал погасить мятежи в департаментах и снять с себя обвинение в диктатуре, давно брошенное жирондистами.
В серии этих «успокоительных» мер немалое место занял доклад по делу лидеров Жиронды, порученный Комитетом общественного спасения Сен-Жюсту. Поручая ему этот доклад, старшие коллеги не удержались от советов.
— Будь умерен, — сказал Дантон. — Надо учитывать сложность создавшегося положения.
— Только не надо излишних резкостей, — сказал Робеспьер. — Помни, что мы между двух огней. Да, дорогой Флорель, общее положение настолько сложно, что…
В дни, когда он готовил доклад, Сен-Жюст и сам был расположен к умеренности: он стал невольным свидетелем трогательной идиллии.
Антуан снова бывал у Дюпле. Ему давно забыли его поведение накануне миссии в Арденны. Теперь не нужно было больше прятаться от Элизы, — добрые их отношения вполне восстановились, хотя и приняли иной оттенок. Постепенно он узнал все подробности романа, завершившегося у него на глазах.
По-видимому, все началось в конце апреля; именно в это время домашние заметили, что Элиза сделалась какой-то необычной: она худела, бледнела, перестала смеяться, на вопросы отвечала иной раз невпопад. Супруги Дюпле, как во всех важных случаях, посоветовались со своим прославленным жильцом.
— Надо обратиться к врачу, — сказал Робеспьер.
Вскоре в доме появился сухощавый доктор Субербиель, пользовавший некоторых членов Конвента.
— Ничего страшного не нахожу, — резюмировал он свои выстукивания и прослушивания. — Рекомендую для укрепления здоровья месяц-другой побыть на природе.
И Элиза отправилась в Шуази, к доброму дяде Жану. Правда, пробыла она в Шуази лишь неполный месяц, но вскоре после возвращения из деревни щеки ее снова порозовели.
Если бы близкие отличались большей наблюдательностью, они поняли бы, что виною этой перемены был не столько целительный климат Шуази, сколько один, всем хорошо знакомый, член Конвента по имени Филипп Леба.
Увы, любовь девичья нестойка и иной раз мечется, прежде чем окончательно найдет себя.
Когда Сен-Жюст узнал все в подробностях, он даже ощутил нечто похожее на ревность: хотя сам он и не любил Элизу, ему было весьма неприятно, что она могла так скоро изменить своему чувству к нему… Потом он сам смеялся над этим минутным ощущением, искренно радуясь за девушку, к которой испытывал чисто братскую нежность.
…С Филиппом Элиза познакомилась еще до того, как полюбила Сен-Жюста. Как-то она вместе с Шарлоттой Робеспьер отправилась на заседание Конвента, чтобы послушать знаменитых ораторов. Здесь-то ее и заметил Филипп. Он хорошо знал семью Робеспьера и, увидев его сестру в сопровождении очаровательной незнакомки, галантно предложил свои услуги. Посадив их на хорошие места, молодой человек принес лорнет. Он объяснял им выступления, пока вдруг не заметил, что у юной незнакомки слипаются глазки. Тогда он нанял извозчика и отправил девиц домой, не рискнув даже спросить у них чужой лорнет…
С тех пор Филипп оказался в плену у прелестной Элизы. Но отныне он напрасно ждал ее у Конвента: девушка больше не обнаруживала желания слушать речи. Тогда Леба начал действовать. Будучи близко знаком с Робеспьером, он сумел войти в дом Дюпле. И увидел, что опоздал…
Отчаяние Филиппа было так велико, что он даже заболел. Тем временем произошла размолвка Элизы с Сен-Жюстом, размолвка, о которой он долго и не подозревал. А потом Элиза уехала в Шуази…
Вот здесь-то, на лоне природы, имея неограниченные досуги для размышлений, девушка, в первые дни занятая своим горем, потом стала успокаиваться и вспоминать… Вспомнила красивого и деликатного молодого человека — не чета этому грубияну Сен-Жюсту — молодого человека, который бросал на нее пламенные взоры и был с ней так предупредителен и чуток…
Теперь Элиза рвалась в Париж.
Каково же было ее изумление, когда, вернувшись домой и на первом же вечере в первый четверг проявив к Филиппу, осунувшемуся и похудевшему, всю допустимую нежность, она почувствовала в ответ ледяной холод… И тогда Элизе показалось, что она любит Филиппа.
При следующей встрече молодой человек буквально ошеломил ее. Он сказал, что хотел бы жениться и, испытывая к ней глубочайшее уважение, просит ее подыскать ему невесту…
Бедняжка спросила чуть слышно, какой должна быть эта невеста.
И тут безжалостный «сердцеед» стал перечислять качества, которые совершенно отсутствовали у нее, Элизы…
Она была близка к обмороку.
Филипп почувствовал это и протянул к ней руки.
— Тебя, одну лишь тебя люблю я и буду любить всю жизнь! Прости меня, дорогая Элиза, я поступил очень коварно и скверно, я мстил тебе за ту боль, которую ты мне причинила. Еще раз умоляю, прости!..
Девушка, рыдая, упала ему на грудь.
…Все это много времени спустя, в Эльзасе, Филипп сам поведал Сен-Жюсту. А вот об успешном завершении романа ему рассказал Робеспьер как раз в конце июня 1793 года. Между обсуждением двух вопросов государственной важности…
— Кстати, — вдруг совершенно некстати проговорил Робеспьер, — а у нас скоро будет свадьба.
Сен-Жюст изобразил удивление, хотя вовсе не был удивлен.
— Да, да, — продолжал Робеспьер, — в этом месяце или в начале следующего.
— А кого жените? — с деланным интересом спросил Сен-Жюст.
— Выдаем замуж Элизу… Нет, ты только послушай, — Робеспьер вдруг рассмеялся, и это было так неожиданно, что Сен-Жюст даже вздрогнул. — Ты только послушай, — продолжал Робеспьер. — Несколько дней назад подходит ко мне старина Дюпле и говорит, а у самого вид какой-то кислый: «Максимильен, только что у меня было пренеприятнейшее дельце». — «Какое?» — спрашиваю я. «А такое, что дал от ворот поворот одному парню, и теперь Бабетта пускает слюни». И он рассказал, что к нему явился наш милый Филипп и торжественно просил руки его дочери. «Хорош, нечего сказать, — воскликнул я. — Да ведь это порядочнейший молодой человек, якобинец и патриот, всегда принятый в твоем доме!» — «Это верно, — почесал за ухом Дюпле. — Стало быть, зря я ему отказал». — «Еще бы не зря! Да я тебя просто не понимаю, друг мой». — «А ты ручаешься за него?» — «Сердцем и головой». — «Ну, тогда это можно исправить, благо молодец еще не ушел — он утешает Бабетту».
И тут Робеспьер захохотал так громко и заразительно, что ему мог позавидовать любой мальчишка. Но вдруг оборвал смех.
— Однако, — заметил он, — мы сильно отвлеклись. Продолжим же наш разговор. Итак, выступая в Конвенте, ты намерен сказать…
Сен-Жюст прекрасно знал, что намерен сказать, хотя до его выступления оставалось еще добрых две недели, что же касается предполагаемой свадьбы, то она, несмотря на успешное сватовство Филиппа, не была сыграна ни в июне, ни в июле. Весьма серьезные обстоятельства отвлекли Робеспьера и его друзей от этого домашнего торжества.
9
8 июля Антуан поднялся на трибуну Конвента и сделал доклад о 32 лидерах Жиронды, подвергшихся аресту в результате народного восстания.
— Заговор, о котором я буду говорить, уже обнаружен; мне нет надобности уличать людей, они сами уличили себя; мне нужно просто рассказать вам, в чем дело…
Так начал он свой доклад.
Спокойно, не спеша размотал клубок всех ошибок и преступлений жирондистов от их выхода на историческую арену и до сего дня; обвинил их в скрытом роялизме, в подстрекательстве к междоусобной войне под предлогом подавления анархии; показал лицемерие, с которым все свои вины, в том числе и «сентябрьские убийства», они пытались приписать подлинным патриотам.
Тон докладчика постепенно суровел; он упомянул много имен в весьма тяжелом для них контексте, и депутаты ждали радикальных выводов. Но выводы оказались гораздо менее радикальными, чем можно было ждать.
— И все же, — заключил Сен-Жюст, — свобода не будет жестокой по отношению к тем, кого она обезоружила. Подвергните проскрипции тех, кто бежал, чтобы поднять мятежи; бегство их свидетельствует о недостаточной строгости их ареста. Накажите их не за то, что они говорили, а за то, что они сделали. Судите остальных и объявите прощение большинству: ошибку не следует смешивать с преступлением.
Проект декрета, предложенный докладчиком и единогласно принятый Конвентом, обвинял девять депутатов, поднявших мятежи, и пятерых депутатов, оставшихся в Париже, но связанных с мятежниками (в числе обвиненных были названы Верньо, Гюаде, Жансонне, Петион, Бюзо и Барбару). Все прочие объявлялись «более заблуждавшимися, чем виновными», и их предполагалось вернуть и Конвент.
Такие матерые враги, как Бриссо или Ролан, были изобличены в докладе, но не попали в проект декрета и в декрет.
Как ему потом было стыдно за этот доклад! Сколько раз упрекал он себя, что, идя на уговоры, снова, как в феврале, поступил против своей воли…
Единственной отрадой было то, что он все же поставил на место Дантона.
«…Бегство их свидетельствует о недостаточной строгости их ареста» — эти слова докладчика вызвали аплодисменты многих депутатов.
Монтаньяры давно следили за Дантоном. Ни для кого не было секретом, что «комитет Дантона», этот «комитет общественной погибели», как не без остроумия назвал его Марат, проморгал опасность и упустил из Парижа злейших врагов республики.
Да и проморгал ли? Не было ли здесь злого умысла?..
Все помнили, что накануне 2 июня Дантон и близкий ему Барер делали все возможное, чтобы договориться с Жирондой и предотвратить народное восстание. Потом Дантон целиком ушел в личную жизнь. Как раз в дни смертельной опасности, угрожавшей республике, он вступил во второй брак, причем заключил его втайне, но скандальные слухи просочились: родители совсем еще юной новобрачной были католиками и реакционерами, и жениху, дабы сломить их упорство, пришлось исповедаться у священника, находившегося вне закона, и венчаться по католическому обряду. Где уж тут было думать о делах общественных…
Дантон похвалялся, что якобы держал в руках все нити иностранной политики. И правда, он и Барер занимались в Комитете преимущественно дипломатией. Но Сен-Жюст знал, что дипломатия эта велась весьма сомнительными средствами. Доверенными агентами Дантона были темные личности, связанные с секретной службой дореволюционной поры; с их помощью он вел мирные переговоры, хотя всем патриотам было ясно: о каком мире можно говорить, пока часть французской территории находилась в руках противника!
Конечно, без конца так продолжаться не могло.
4 июля на Комитет и Дантона посыпались упреки в бездеятельности, обвинения в том, что не были ни предотвращены, ни уничтожены в зачатке жирондистские мятежи, ныне охватившие две трети страны.
Дантон защищался слабо: ему было нечего возразить.
8 июля, после доклада Сен-Жюста, натиск усилился.
10 июля судьба «комитета Дантона» решилась. При известии о поражениях генерала Вестермана, «человека Дантона» в Вандее, раздался свист и топот. Монтаньяры потребовали обновления Комитета.
И Комитет был обновлен: Дантона в новый состав не избрали.
А через два дня, 13 июля, Конвент был как громом поражен известием об убийстве Марата.
Так вот к чему привела политика «умиротворения»!
…Она была дворянка-роялистка, и звали ее Шарлотта Корде. Она жила в Нормандии, в Кане, где беглые вожаки жирондистов устроили одну из своих главных штаб-квартир. Красавец Барбару, едкий Бюзо, коварный Луве и красноречивый Петион хорошо подготовили маньячку.
Они направили ее на своего главного врага, сыгравшего центральную роль в дни подготовки свержения Жиронды.
Шарлотта приехала в Париж, проникла в жилище больного Марата и нанесла ему смертельный удар ножом.
Ужас и горе объяли парижан.
Простые люди любили Марата, видя в нем своего защитника и друга.
На какое-то время смолкли все разногласия.
Республика приспустила знамена.
Утром 15 июля тело Марата было выставлено для прощания в церкви Кордельеров. Обнаженный по пояс, лежал он на высоком постаменте, украшенном трехцветной драпировкой. Страшная рана зияла в груди. Нож убийцы, почерневший от крови, находился рядом. Смоченная гипсом простыня, укутывавшая тело, была тщательно уложена наподобие античного покрова. Смертное ложе утопало в цветах. Двое у изголовья увлажняли тело и покров ароматическим уксусом. Жгли благовония.
Сколько народу побывало здесь в этот день! Сколько было пролито слез! Сколько страшных клятв было дано на почерневшем ноже!..
Члены Конвента, комитетов, секций шли друг за другом, чтобы проститься с покойным.
— Где ты, Давид? — воскликнул оратор одной из секций. — Тебе предстоит написать еще одну картину!
[14]
— Я напишу ее! — просто ответил художник.
И он сдержал слово. Его картина «Смерть Марата», выставленная во дворе Лувра, стала предметом паломничества. Выполненная в светлых тонах, лишенная театральных эффектов, она поражала античной суровостью и простотой. Ее сюжетом было бессмертие.
Похороны Марата происходили во вторник 16 июля.
Погребальная церемония началась в 6 часов вечера и продолжалась всю ночь.
Тело Марата, покоившееся на уступчатом ложе, несли двенадцать человек. По бокам шли девушки в белых платьях и юноши с ветвями кипариса в руках. За ними следовали депутаты Конвента и представители секций под своими знаменами.
Траурная процессия медленно проследовала по улице Тионвиль, перешла Сену через Новый мост, миновала набережную Ла-Ферай, вернулась на левый берег через мост О-Шанж, поднялась к Французскому театру и возвратилась в сад Кордельеров.
Сен-Жюст находился в первом ряду провожавших. Рядом шел Робеспьер. Во время церемонии они не обменялись ни словом, но, поглядывая на друга, Антуан понял, что думали они об одном и том же.
Итак, удар нанесен. Удар из-за угла, достойный Иуды. Они щадили жирондистов, думая, будто умеренностью и сглаживанием противоречий можно добиться мира.
Умиротворение… Какая чепуха!.. Кто пойдет на мир и уступки, если это пахнет потерей твоего первенства и твоего кошелька?.. Революция зашла слишком далеко, теперь не может быть речи о половинчатых мерах или частичных уступках. Вопрос стоит так: все или ничего, мы или они. Иначе и победителю грозит гибель, смерть Марата — яркое тому доказательство.
Враги всех мастей, проиграв в стране, обратились к Европе. Европа пошла на Францию, создав угрозу удушения нашей республики. Чтобы ликвидировать эту угрозу, нужно поднять весь народ, тех санкюлотов, которые делали революцию, делали своими мозолистыми руками и своей кровью.
А богачи, «почтенные собственники»? О, они в это время превосходно юлили. Они юлят и сейчас, убивают и юлят. Многие из них еще произнесут прекрасные речи и отличные лозунги. Но суть ясна: борясь за свое имущество, они превращаются во врагов.
Врагами стали те, кто поднял мятежи и убивает патриотов.
Врагами станут и те, кто не понял этого, кто проявляет снисходительность к мятежникам и пытается сгладить острые углы.
Когда процессия вернулась в сад Кордельеров, было около полуночи. Толпы народа на улицах и в саду тихо пели революционные песни. Через каждые пять минут на Новом мосту раздавались пушечные залпы.
В глубине сада, ярко освещенного факелами, — сложенный из больших камней холм. В его нижней части виднелось отверстие, закрытое железной решеткой. Над решеткой в нише временно поставили драгоценную урну, в которой хранилось сердце Марата. Холм был увенчан обелиском с надписью:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ МАРАТ,
ДРУГ НАРОДА, УБИТЫЙ ВРАГАМИ НАРОДА
13 июля 1793 года
Здесь покоится Марат…
Он кончил преждевременной могилой.
Так кончим и все мы: долгая жизнь не входит в наши планы.
Ибо мы будем бороться до последнего врага или до последнего патрона; если не сможем победить, погибнем, и если одержим победу, но не закрепим, то погибнем также.
«Гора между двух огней», — сказал как-то Робеспьер.
Но теперь они видят: двух огней нет, есть только народ и его враги. Тот, кто не идет с народом, идет с его врагами. Истина простая и ясная как день. Но чтобы прийти к ней, сколько пришлось блуждать в потемках…
На следующий день произошло одно пустяковое событие, на момент отвлекшее Сен-Жюста от серьезных мыслей. Началось с того, что он с удивлением заметил непонятную веселость кое-кого из коллег. Потом ему вручили брошюру с заранее отчеркнутым местом…
Виной всему оказался старый знакомец, который с некоторых пор буквально не выносил его (впрочем, чувство было взаимным), — член Конвента и журналист Камилл Демулен.
Совсем недавно, 11 июля, с Камиллом случилась пренеприятная история. Депутат Камбон известил Конвент о только что раскрытом роялистском заговоре, во главе которого стоял генерал Диллон, уже арестованный и допрошенный.
И вдруг Камилл бросился к трибуне Конвента с опровержением.
— Нет ничего нелепее этой басни! — вопил он.
Друзья Камилла переглядывались. Всем было известно, что Демулен постоянно обедал у Диллона и что Диллон ухаживал за женой Демулена, которая, как полагали, и толкнула мужа на этот выпад. Но выступить в такое время в защиту генерала-роялиста…
Председатель Тюрио, желая спасти безумца, отказал ему в слове.
— Не давайте этому идиоту позориться! — крикнул с места кто-то из депутатов.
А когда понурый Демулен выходил из зала, вслед ему бросили:
— Ступай обедать с аристократами!
Сен-Жюст во время этой перепалки не проронил ни слова. Однако, когда Демулен проходил мимо, он окинул бывшего приятеля ледяным взглядом, и Камилл поймал этот взгляд…
Этот ничтожный инцидент никогда бы не задержался в памяти Сен-Жюста, если бы именно сегодня, 17 июля, не обнаружилось его продолжение. Разъяренный журналист выпустил брошюру «Ответ Камилла Демулена по поводу дела Артура Диллона». Оправдывая себя, он пустил несколько стрел в своих критиков. Одна из них предназначалась Антуану.
«После Лежандра, — писал Демулен, — самым тщеславным членом Конвента является Сен-Жюст. По его поведению и манере держаться видно, что он смотрит на свою голову как на краеугольный камень республики и носит ее на плечах с таким уважением, будто это святые дары».
Сказано было зло. Очень зло. Но и остроумно.
Робеспьер, хохоча до упаду, сказал, что Демулен написал лучший портрет Сен-Жюста и теперь художникам нечего зря трудиться.
Смотря на себя в зеркало, Сен-Жюст не мог не признать, что его хулитель был в чем-то прав. Действительно, он всегда слишком прямо держался и слишком высоко поднимал голову; со стороны, вероятно, он выглядел неестественно натянутым и принужденным… Как бы то ни было, шутка Камилла именно потому, что она была остроумна и била прямо в цель, глубоко уязвила его. Но с ответом он не спешил.
Страшная смерть Марата произвела ошеломляющее впечатление на Париж и народ всей страны.
Народ требовал мести.
У Марата немедленно обнаружились «наследники»: вожди «бешеных» Жак Ру и Леклерк объявили себя продолжателями его газеты.
Заместитель прокурора Коммуны журналист Эбер сказал:
— Если нужен наследник Марата, если нужна еще одна жертва, она готова и покорна судьбе: это я…
Диссонансом прозвучали слова Дантона:
— Его смерть принесла еще больше пользы делу свободы, нежели его жизнь, так как она показала, откуда грозят нам убийцы…
Мягко выражаясь, двусмысленная фраза.
Совершенно иначе, словно стряхивая с себя все колебания последних недель, выступил Робеспьер.
— Надо, — сказал он 14 июля у Якобинцев, — чтобы пособники тирании, вероломные депутаты, развернувшие знамя мятежа, те, кто постоянно точит нож над головой народа, кто погубил родину и некоторых ее сынов, надо, говорю я, чтобы эти чудовища ответили нам своей кровью, чтобы мы отомстили им за кровь наших братьев, погибших во имя свободы, за кровь, которую они с такой жестокостью пролили…
Сен-Жюст от души аплодировал другу. Он чувствовал: перелом начался.
10
Во второй половине июля он с головой ушел в дела Военной секции. Теперь именно здесь решалась судьба республики.
Убийство Марата стало сигналом к общей атаке врагов. В тот день, когда в Париже хоронили Друга народа, в мятежном Лионе озверевшие жирондисты бросили на плаху вождя местных санкюлотов Жозефа Шалье. Роялисты Вандеи одержали победу у Вье и угрожали Анжеру. Англичане готовились к осаде Дюнкерка. Австрийцы взяли Конде и рвались к Валансьену. В районе Альп завершилась оккупация Савойи. На Пиренейском фронте испанцы приближались к Байонне и Перпиньяну.
Угроза внешнего удушения становилась реальностью.
Поначалу Сен-Жюсту приходилось трудно: ему недоставало специальных знаний. Служба в национальной гвардии Блоранкура, постоянное общение с волонтерами, кратковременное сотрудничество с Военным комитетом Конвента, наконец, миссия в Арденны — все это дало ему много, но не сделало специалистом. Теперь, нуждаясь в подробных и точных сведениях, он занялся сбором и изучением самых различных материалов, имеющих отношение к войне.
В Военном бюро Комитета он наследовал дантонистам Дельма и Делакруа, оставившим дела в крайне запутанном состоянии. Ему пришлось сотрудничать с Гаспареном, вошедшим в Комитет 12 июня. Профессиональный солдат старого режима, бывший капитан Пикардийского полка, Гаспарен стремился создать себе репутацию единственного военного специалиста в Комитете. Он дружил с генералом Кюстином, экс-маркизом, и много содействовал назначению его в Северную армию. Что же до дела, то Гаспарен разбирался в нем плохо. Сен-Жюста раздражал этот самонадеянный солдафон, однако приходилось стиснуть зубы и терпеть. Терпеть приходилось и ненавистного Эро, который интересовался военным положением и всюду совал свой нос. Сен-Жюст по возможности воздерживался от сношений с этой парой; вскоре зато он нашел единомышленника в лице Робера Ленде, человека честного и работящего.
Сен-Жюст часто бывал в военном министерстве, где встретился с хорошо знакомыми людьми. Военному министру Бушотту в то время было тридцать шесть лет. Он прошел тяжелую рекрутчину старого режима, начал службу рядовым и в годы революции дослужился до чина полковника. Человек простой, дельный, решительный, он сразу вызвал симпатию Сен-Жюста. В канцелярии Бушотта он нашел своего старого друга Жермена Гато, с которым когда-то вместе учился в Реймсе; здесь же работал и Вилен Добиньи, общий знакомый Сен-Жюста и Робеспьера, получивший свою должность благодаря поддержке Неподкупного. Все эти люди оказали посильную помощь Антуану, и во второй декаде июля он уже располагал почти исчерпывающими данными о существе военной проблемы и о состоянии дел на различных фронтах.
Если оставить в стороне Альпийский и Пиренейский фронты, которые вследствие своей отдаленности от Парижа не представляли особенно сильной угрозы, положение выглядело следующим образом.
Вдоль северной границы силам австрийцев, ганноверцев и гессенцев, достигающим в совокупности 118 тысяч штыков, противостояли республиканские Северная и Арденнская армии. После измены Дюмурье, вместе взятые, они насчитывали едва 22 тысячи. Весенний и летний наборы увеличили их численность до 108 тысяч. Однако, исключив больных, штрафников, отпускников и занятых на вспомогательных работах, Сен-Жюст уменьшил при подсчете находящихся под ружьем в обеих армиях более чем наполовину, дав приблизительную цифру 50 тысяч. Это было в два с половиной раза меньше, чем у врага. При этом необходимо было учитывать значительную протяженность фронта.
Сен-Жюст сразу взял Северный фронт на заметку.
На Восточном фронте положение складывалось иначе. Здесь 84 тысячи пруссаков и австрийцев имели против себя две республиканские армии — Мозельскую, насчитывающую 83 тысячи человек, и Рейнскую, доходившую к этому времени до 100 тысяч. Если из этого числа, проведя ту же счетную операцию с больными, отпускниками и т. п., откинуть даже половину, оставалось число бойцов, более чем уравновешивающее силы противника.
Сен-Жюст делал двоякие выводы — дальнего и ближнего прицела. Первые касались маневренной переброски войск, и к этому подойти вплотную он собирался позже. Выводы же, которые требовали немедленного решения, касались деятельности и личности одного из главных представителей французского командования — генерала Кюстина.
Генералу Кюстину в марте были доверены войска Восточного фронта. Хотя его силы по численности не уступали силам врага, он вдруг бросил французские склады в Рингене, Крейцнахе и Вормсе, быстро отступил к Ландау, но и там не считая себя в безопасности, отошел за реку Лаутер, предоставив неприятелю возможность обложить осадой Майнц. Это произошло в начале апреля. Тогда же, размышлял Сен-Жюст, генерала, который был абсолютно бездарен или, что представлялось более вероятным, предавал, следовало отстранить от должности и отдать под суд. Где там! «Комитет Дантона» на подобное был не способен. Вместо этого оскандалившегося генерала по ходатайству его друга Гаспарена перебросили на Северный фронт. Совершенно очевидно, что сделано это было с целью похоронить поведение Кюстина на Восточном фронте. Но что же дальше? Быть может, получив новое назначение, генерал поспешил искупить свои ошибки? Ничуть не бывало. Как командующий Северным фронтом он показал себя не лучше, чем раньше. Он провел авантюру якобы с целью спасти Майнц, хотя Майнц был на Восточном фронте. Сен-Жюст не сомневался, что города изменник не спасет. Зато, распылив свои силы, Кюстин еще более оголил Северный фронт, в то время как Валансьен и соседние крепости находились под угрозой. Не ясно ли, что он идет по стопам Дюмурье? Ну как тут не вспомнить, что в своем последнем, предсмертном номере газеты Марат обличал именно Кюстина, а Комитет и Конвент остались глухи к его предостережениям!..
Сен-Жюст понимал: медлить нельзя. Невзирая на то что он был одинок в Комитете — Кутон болел, а Ленде находился в командировке, — он смело поставил вопрос о Кюстине на первом же пленарном заседании.
Гаспарен немедленно выступил в защиту своего ставленника. «Красавчик Эро» промолчал.
Совершенно неожиданно Сен-Жюста поддержал Барер, и поддержал горячо. Тогда остальные согласились с Сен-Жюстом и Барером. Гаспарен оказался в изоляции.
Конвент немедленно вызвал Кюстина в Париж.
В ночь на 22 июля генерал был арестован.
Это была первая победа Сен-Жюста в Комитете.
Первая, но какая! Он оказался во всеоружии. Он показал коллегам недюжинную эрудицию, умение выделить главное, способность четко аргументировать свою мысль. Недаром же хитрец Барер поддержал его!
Ближайшие дни еще более убедили Сен-Жюста: он рассчитал все правильно, можно даже сказать — математически точно.
23 июля пал Майнц.
28 июля враг овладел Валансьеном.
Оскандалившийся Гаспарен не стал ждать дальнейшего развития событий. Сразу после падения Майнца, ссылаясь на расстроенное здоровье, он подал прошение об отставке. Просьба его была удовлетворена: 27 июля он «по болезни» вышел из состава Комитета общественного спасения.
27 же июля на освободившееся место был назначен Конвентом Максимильен Робеспьер.
Радость Сен-Жюста была столь велика, что, несмотря на свою обычную сдержанность, он не мог ее скрыть. Он крепко обнял друга.
Итак, его победа оказалась двойной: добившись ареста изменника, он содействовал этим водворению в Комитете человека, который и только который был там абсолютно необходим.
Наконец выздоровел и Кутон.
Конечно, то, что теперь рядом с ним были оба его соратника и друга, значительно облегчало положение Сен-Жюста и давало ему большую уверенность в правоте своих действий. Правда, и Кутон, и Робеспьер были весьма далеки от проблем, связанных с войной. Неподкупный никогда не вникал в детали кампаний и битв и не скрывал, что ничего не смыслит в стратегии и тактике; зато он отлично разбирался в цивизме генералов, и здесь его нюх был очень полезен: после Кюстина были отстранены и отправлены в Трибунал преступно бездеятельные генералы Ушар, Богарне и Шауенбург.
А в конце июля — начале августа внимание всего Комитета было приковано к Северному фронту.
Падение Валансьена, главного форпоста на севере, угрожало вторжением. Именно здесь герцог Кобургский мог легко осуществить прорыв фронта и выйти на самую короткую дорогу к Парижу. Еще раз тщательно просмотрев планы и карты, Сен-Жюст пришел к выводу, что необходима переброска части сил с Восточного фронта на Северный.
Эта мысль Сен-Жюста была одобрена Комитетом.
9 августа переброска была осуществлена, в результате чего численность Северной и Арденнской армий сразу возросла до 70 тысяч человек. Перед Кобургом возник непреодолимый заслон, а в будущем уже предчувствовались победы республики.
Так молодой член Комитета общественного спасения Антуан Сен-Жюст в период отсутствия необходимых контингентов,
[15] кризиса командования и хронической нехватки продовольствия заставил Комитет придерживаться динамичной «политики обстоятельств».
Сен-Жюст, говоря об этой новой стратегии, всегда подчеркивал две ее стороны: смелость и осмотрительность, решительность нанесения удара при полном учете ресурсов.
— Только дерзость в сочетании с мудростью создает искусство побеждать, — не раз говорил он.
Не меньшее значение придавал Сен-Жюст снабжению армии и городов страны, в первую очередь цитадели революции — Парижа. Между тем продовольственная проблема все более обострялась. Экономический кризис лета 1793 года толкнул предпринимателей и торговцев в объятия контрреволюции. Недовольство богатых фермеров, придерживавших свои продукты, могло парализовать оборонные усилия крепостей и пограничных городов страны.
Сен-Жюст с обычной для него решительностью поставил в Комитете проблему продовольствия и снабжения весьма недвусмысленным образом: экономика страны должна быть мобилизована на нужды национальной обороны. Действительно, уж если мы ради спасения родины без всякой неловкости превращаем мирных людей в солдат, то почему должно нас смущать столь же необходимое для спасения родины вторжение в сферу производства и торговли?..
И Конвент, идя навстречу предложению Сен-Жюста, 9 августа впервые декретировал реквизицию в качестве одной из мер общественного спасения. Отныне все фермеры, производители зерна, за исключением бедняков, имевших менее пяти арпанов засеянной земли, должны были сдавать государству часть своей пшеницы и ржи по прогрессивной разверстке. Разверстка предусматривала очень большую разницу в количестве подлежавшего реквизиции зерна в зависимости от состоятельности культиватора. Стоимость реквизированного зерна оплачивалась администрацией по государственной цене, то есть по ставкам майского максимума.
Всем бы хорош был новый закон, но, как понял его автор несколько позднее, в нем было одно уязвимое место. Ведь было ясно, что многие богатые фермеры постараются уклониться от крайне невыгодной сдачи зерна по государственной цене. Как быть в подобном случае? Казалось, декрет это предусматривал. Виновный в нарушении закона облагался штрафом, равным стоимости зерна, подлежавшего реквизиции. Но к чему этот штраф сводился? Ведь он же уплачивался ассигнациями, а ассигнации упали до 30 процентов своей нарицательной стоимости! Ясно, что богатый культиватор предпочитал уплатить штраф, нежели сдавать зерно.
Стало быть, требовались какие-то иные формы воздействия.
Но прежде чем Сен-Жюст окончательно придет к подобному решению, он должен будет окончательно отказаться от мысли о немедленном введении в жизнь демократической конституции, за которую только что проголосовал французский народ.
Да, именно сейчас были объявлены полные итоги плебисцита по вопросу принятия конституции 1793 года. Конституционный акт, утвержденный Конвентом 24 июня, был одобрен 1800 тысячами голосов против неполных 17 тысяч, причем более 100 тысяч голосовавших приняли конституцию с небольшими поправками.
Эти результаты были торжественно объявлены 10 августа 1793 года, в день праздника Единства и Неделимости республики.
Праздник был подготовлен вездесущим Давидом. Как и на дни Федерации 1790–1791 годов, в Париж съехались посланцы со всех концов страны. Но, в отличие от первых празднеств революции, зритель не видел ни шитых золотом камзолов, ни мундиров с витыми позументами, ни киверов с пышными султанами, ни штыков, готовых опуститься наперевес. Главной эмблемой торжества был «священный ковчег» с текстом конституции — особый сундук из ценных пород дерева; его несли несколько человек, высоко подняв над процессией.
Праздник начался с восходом солнца на развалинах Бастилии и окончился вечером на Марсовом поле.
Героем торжества был «создатель конституции» Эро де Сешель. Ради такого случая его избрали председателем Конвента. На всех этапах праздника он руководил церемонией, произносил речи, вел за собой колонны участников. Стройный, красивый, изысканно одетый, он расточал улыбки хорошеньким женщинам и целовал актрис, изображавших героинь 5 октября.
[16]
— Ты только посмотри на него, — заметил Робеспьер своему другу. — «Красавчик» парит на крыльях и воображает себя подлинным античным героем!
— Недолго осталось красоваться этому развратнику, — мрачно ответил Сен-Жюст. — А вот почему он считается «творцом конституции», этого я понять не могу. Неужели только потому, что так радикально изуродовал твой и мой труд?
Робеспьер пожал плечами и ничего не ответил.
— Впрочем, — продолжал Сен-Жюст, — теперь уже ясно, что конституция, какой бы она ни была, не станет действующим документом. Только враг или идиот рискнул бы сейчас пустить ее в ход. Я полагаю, что она так и останется в этом «священном ковчеге».
Робеспьер молчал.
Как ни затягивали и ни прерывали внешние обстоятельства личных дел славного Филиппа Леба, его роман все-таки завершился наилучшим из всех возможных концов.
26 августа, вернувшись с Северного фронта, где он был в трехнедельной миссии, Филипп вступил в брак с Элизабет Дюпле. Венчание проходило в ратуше, свидетелями были Максимильен Робеспьер и дядя Жан Вожуа. Свадьбу отпраздновали в кругу близких, в гостиной дома Дюпле. Новобрачная раскраснелась и все время хохотала, лишь изредка поглядывая на предмет былых мечтаний; Сен-Жюст в этих случаях томно вздыхал. А вообще было весело и на короткое время даже забылось, что есть Комитет, Конвент, война и прочее…
Молодые обосновались было на улице Аркад, но вскоре перебрались поближе к родительскому дому, на улицу Люксанбур. Леба, боготворивший жену, простодушно говорил Сен-Жюсту:
— Ты наш ближайший друг, и она так любит тебя! Понимаю, ты безумно занят, и все же не сочти за труд, приходи почаще…
11
Личными обстоятельствами закончился для него хлопотливый август, личными же обстоятельствами начался бурный сентябрь. В самом начале месяца он получил письмо от блеранкурского друга. Письмо Тюилье содержало много подробностей, не волновавших Антуана. Но в самом конце была приписка:
«…Я получил известие о жене Торена; тебя все еще считают ее похитителем. Она живет в отеле „Тюильри“, против Якобинского клуба, на улице Сент-Оноре. Необходимо сделать все возможное, чтобы опровергнуть клевету, которой заставили поверить порядочных людей, и восстановить уважение и почет, которыми ты всегда пользовался. Ты не представляешь, насколько это заслуживает внимания. Прощай, мой друг, сейчас отходит почта; сделай ради моего покоя то, что обещал.
Преданный тебе на всю жизнь твой Тюилье».
Итак, Тереза Торен здесь, в Париже, совсем рядом…
Сен-Жюст почувствовал, как кровь прилила к его щекам.
Неужели ему никогда не вырваться из этого порочного круга? Он боролся с собой и победил, выбросил ее из мыслей и сердца. Уже несколько месяцев он не вспоминает о ней. Он заковал себя в броню своего дела, своего долга перед родиной. И вот снова… Зачем прибыла сюда? Неужели только для того, чтобы встретиться с ним, с Сен-Жюстом?.. А этот-то, нечего сказать, хорош… Бесценный друг, честнейший Яго… Что это, неразумие или двуличие? Но он же неглуп, этот «преданный на всю жизнь». Зачем он остерегает и дразнит? Зачем дает ее адрес?..
Антуан бросил письмо, упал на постель и отвернулся к стене.
Будь что будет. А милого Тюилье он вызовет к себе: хватит ему коснеть в глуши и сочинять небылицы. Пускай-ка потрудится на пользу общего дела.
Два следующих утра он вел себя словно лунатик: вместо того чтобы идти в Конвент, бродил по улице Сент-Оноре, около дома Дюпле и Якобинского клуба… Вот и сегодня остановился лишь после того, как увидел на противоположной стороне надпись: Отель «Тюильри».
Гостиница как гостиница: серая, грязная, с пыльными окнами.
Чего ждал он? Наверное, что она выйдет и он увидит ее. Зачем? — он вряд ли мог ответить. Он просто ждал. Но среди выходящих ее не было. Он так и не увидел ее.
…Антуан вдруг почувствовал, что его толкают. И вот толпа, с криком и руганью заполнившая улицу, увлекла его с собой. Толпа неслась к Конвенту. Он сразу понял, что происходит: ведь было 5 сентября!..
Все началось накануне. Народное недовольство, зревшее в июле — августе, наконец прорвалось. 4 сентября с раннего утра на улицах стали появляться толпы рабочих — плотников, каменщиков, слесарей. Люди шли к ратуше с криками: «Хлеба, хлеба!..»
Прокурор Коммуны Шометт и мэр Паш, как могли, успокаивали народ. Заместитель прокурора Эбер посоветовал санкюлотам завтра утром отправиться в Конвент. Он сказал:
— Пусть народ окружит Конвент, как уже делалось десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая, и не оставляет этого поста до тех пор, пока народные представители не примут мер общественного спасения.
И вот сегодня, 5 сентября, парижане последовали этому совету.
Когда толпа, сопровождавшая мэра и прокурора Коммуны, подступила к Конвенту, было около часа дня. Сен-Жюст вошел в зал заседаний и занял свое место. Председательствовал Робеспьер. Антуан обратил внимание на необычную бледность лица друга.
Депутат Купе заканчивал речь, в которой рекомендовал ввести в столице хлебные карточки. В это время к решетке подошла депутация Коммуны. Слово взял Шометт.
— Европейские тираны, — сказал он, — хотят уничтожить французский народ голодом: они мечтают заставить наших граждан променять суверенитет на краюху хлеба. Но народ никогда не сделает этого!
— Нет, нет, никогда! — полетело со всех сторон.
«Ловкий ход, — подумал Сен-Жюст. — Это сказано для успокоения Конвента, а потом, вне сомнения, будет совсем другое».
— Класс, преступный, как и дворянство, — продолжал Шометт, — овладел припасами. Вы нанесли ему удар, но лишь оглушили его…
«Так и есть, вот появились и „класс“, и „удар“. Дальше пойдет еще сильнее».
— Довольно щадить изменников! — повысил голос Шометт. — Пришел день суда и гнева. Пусть формируется Революционная армия, пусть она пройдет по департаментам, пусть за ней шествует грозный трибунал и орудие, одним ударом пресекающее заговоры!
Пока прокурор говорил, манифестанты стали проникать в зал. В руках у них были транспаранты с революционными лозунгами. Занимая свободные места, санкюлоты овладели партером. Вошла депутация якобинцев. Ее оратор потребовал суда над изменниками.
— Поставьте террор в порядок дня! — закончил он. — Будем на страже революции, ибо контрреволюция царит в стане наших врагов!
Сен-Жюст видел, что Робеспьер нервно ерзает; казалось, председательские обязанности в этот день крайне тяготили его. Теперь он поднялся и проговорил:
— Враги народа давно провоцируют его месть. Народ на страже, враги его погибнут. Мы озабочены бедствиями народа. Пусть же благонамеренные граждане теснее сплотятся вокруг Конвента!..
На смену Робеспьеру спешит Дантон.
— Когда народ требует, — гремит его голос, — надо применять те методы, что он выдвигает, как диктует гений свободы!
Гром аплодисментов отвечает оратору. Слышатся крики:
— Слава Дантону! Да здравствует республика!
— Нужно довести революцию до конца! — продолжает Дантон. — Пусть не пугают вас попытки контрреволюционеров поднять мятеж в Париже. Конечно, они стремятся погасить очаг свободы; но патриоты, сотни раз устрашавшие врагов, живы и готовы ринуться в бой. Умейте управлять ими, и они снова разрушат козни!..
«Вот это прием! — подумал Сен-Жюст. — Демагог вроде бы выручает Робеспьера и тут же низвергает его; показав, что проект восстания — дело рук контрреволюционеров, он стремится
вырвать санкюлотов из-под влияния Эбера и Шометта и сам стать во главе их, чтобы закончить революцию по своему вкусу! И большинство депутатов его понимает. А вот понял ли Робеспьер?..»
Робеспьер как будто тоже понял. Он передал место председателю Тюрио, а сам поспешно вышел из зала.
Сен-Жюст решил дождаться результатов. Его внимание привлек худощавый бледнолицый человек, несколько раз очень резко выступавший и теперь, словно аккомпанируя ораторам, громко повторявший одно слово: «Действовать, действовать, действовать…» Сен-Жюст едва знал этого депутата, но вспомнил его необычное имя: Бийо-Варенн.
Между тем Барер подвел итоги:
— Поставим террор в порядок дня… Роялисты хотят крови — дадим им кровь заговорщиков, разных бриссо, роланов, марий-антуанетт… Они хотят сокрушить конституцию — конституция низринет их!.. Они хотят погубить Гору — Гора их раздавит!..
«Ну и ну, — подумал Сен-Жюст, — поверил бы кто три месяца назад, что ты будешь так говорить?..»
Все было ясно. Он отправился искать Неподкупного.
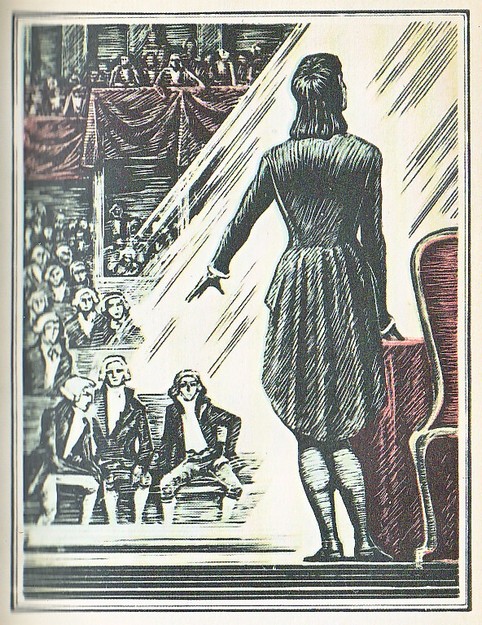
Неподкупный пребывал в глубокой задумчивости и, казалось, не заметил его прихода.
— Ты почему умчался? — спросил Антуан.
— Мы попадаем в объятия контрреволюции, — мрачно изрек Робеспьер. — Я с величайшим трудом сокрушил этих «бешеных», но им на смену грядет новое пополнение выкормышей Коммуны…
— Они выступают от лица голодающего народа, да еще пытаются смягчить положение, сводя все к чисто политическим мерам.
— Не спорю, народ голодает, но это используют интриганы…
— Так будет всегда, пока народ остается голодным.
— Нужна единая воля, — помолчав, сказал Робеспьер.
Сен-Жюст рассмеялся.
— А, наконец-то и ты пришел к этому выводу… Браво, лучше поздно, чем никогда… Но что же будет в этом случае с демократической конституцией, блага которой ты недавно расписал мне столь яркими красками?..
Робеспьер ничего не ответил.
— Нужна единая воля, — повторил Сен-Жюст. — Это ты точно сформулировал. Но заметил, что это понял и Дантон?
— Дантон хорошо говорил сегодня.
— Уж куда лучше. Да только это была ловушка, расставленная всем честным патриотам. Дантон громыхал о народе и революции, но делал это, как всегда, из эгоистических соображений.
— Ты преувеличиваешь.
— Отнюдь. Вспомни, как вел он себя во главе «комитета общественной погибели». Дантон — приспособленец, играющий и нашим и вашим. Но теперь он понял: если сегодня не окажется на самом верху, то завтра его дело дрянь, совсем дрянь. И вот он старается изо всех сил, твой растленный Дантон.
— Ну, это уж ты хватил.
— Не притворяйся простаком: ты все видишь не хуже меня.
Робеспьер с удивлением посмотрел на друга: в таком тоне Антуан никогда с ним не говорил. Он хотел было возмутиться и дать наглецу взбучку, но сказал только:
— Какой же ты злой сегодня, Флорель.
— А я всегда злой, Максимильен. Всегда, когда речь идет о борьбе с врагом. Я не переношу лицемерия, и если люблю, то люблю по-настоящему, а если бью, то бью без фраз и насмерть.
— Раньше ты был иным, мой друг.
— Раньше? Возможно. Да, я был иным тогда. Но привело ли это к добру?
— И все же, милый Флорель, как бы ты ни грубил мне сегодня, кое-чему у меня ты научился. Если раньше ты говорил: «Надо дерзать», то теперь утверждаешь: «Дерзать в сочетании с мудростью». Смею спросить, откуда ты взял эту «мудрость»?..
На этот раз промолчал Сен-Жюст.
— Однако, — вдруг встрепенулся Робеспьер, — надо на что-то решаться. Нужны контрмеры, иначе все кончится плохо.
— Единственная контрмера, — сухо сказал Сен-Жюст, — убедить Комитет в необходимости принять народную программу. Ты думаешь, нас провоцируют? Так выбьем почву из-под ног провокаторов: возьмем в руки полноту власти. Пока не кончилась революция, правительство должно быть революционным; ни о какой конституции не может быть и речи. Мы вернемся к ней, когда кончится война. Но до этого надо дожить. И вот чтобы дожить, мы должны сейчас стать беспощадными. Это понял даже Барер. Нужна лишь инициатива, и Дантон попытался ее проявить. Но мы предупредим Дантона.
Робеспьер продолжал смотреть на него с удивлением. Долго молчал. Потом спросил сочувственным тоном:
— Флорель, тебе очень плохо?
— Что? — не понял Сен-Жюст.
— Я спрашиваю, у тебя большие личные неприятности?
— Почему ты так думаешь? — вспыхнул Сен-Жюст.
— Потому, что знаю тебя, — ответил Робеспьер. — Впрочем, я не намерен расспрашивать о чем бы то ни было…
Позже, раздумывая над этим разговором, Сен-Жюст еще раз удивился проницательности Робеспьера, его умению проникать в душу собеседника. Да, он понял состояние Антуана, его глубокий внутренний разлад, связанный с письмом Тюилье. И все же Неподкупный был не прав. Личные переживания Сен-Жюста, сколь бы глубоки они ни были, не имели ни малейшего влияния на его политические идеи. Его решения как политика и государственного деятеля складывались исподволь, в результате многомесячного хода событий и были связаны с обстоятельствами, важными не для его персоны, а для народа и страны, — соизмеримости здесь быть не могло.
Но почему же тогда именно в эти сентябрьские дни так вдруг ослабела видимая деятельность Сен-Жюста? Почему он, до этого дни и ночи просиживавший за работой, теперь стал редким гостем в Комитете общественного спасения? Только ли потому, что его замещали Карно и Приер, взявшие на себя основное бремя Военной секции?..
Он мог ответить, что был занят обдумыванием общего положения и не оставалось времени для остального.
Может быть, и так. Но исчерпывал ли подобный ответ суть дела? Не было ли здесь еще чего-то личного, не связанного с высокими материями большой политики?..
Нет, он не ходил больше к отелю «Тюильри» и не приглядывался к входившим и выходившим. Этого не было; он снова сумел взять себя в руки и пригасить пламя, неожиданно вспыхнувшее в груди. Но уж если говорить честно, причиной этого было не только его благоразумие. Просто против яда нашлось противоядие, и противоядие достаточно сильное.
Когда Филипп Леба просил Сен-Жюста почаще заглядывать к ним на улицу Люксанбур, тот был несколько удивлен: ведь не мог же не знать Филипп о прежних чувствах Элизы. Вскоре, однако, он понял, что доверчивый друг его, настойчиво приглашая, имел и некую заднюю мысль: на улице Люксанбур Антуан обнаружил магнит куда более сильный, чем Элиза…
С Анриеттой Леба, младшей сестрой Филиппа, он познакомился еще на свадьбе друга, и девушка сразу привлекла его. На вид ей было лет девятнадцать. Лицом она походила на брата, но казалась более смуглой, и глаза ее были чуть больше и темнее. Облик ее не отвечал античным канонам, но в прямоте и внимательности взгляда, в манере разговаривать и держаться было нечто, поразившее Сен-Жюста. Хотя Анриетта внешне ничем не походила на Терезу, он уловил какие-то токи, идущие от этой девушки и знакомые ему по ощущениям ранней юности. Не будет преувеличением сказать, что именно встреча с Анриеттой осложнила восприятие Сен-Жюстом письма Тюилье и заставила его простоять несколько утренних часов на улице Сент-Оноре перед мрачным домом с полустертой вывеской. Но если это обстоятельство в какой-то мере подтолкнуло его к безрассудству, то оно же в конечном итоге и вернуло ему рассудок.
После неприятной беседы с Робеспьером Антуан долго не мог найти себе места. Размышляя о том о сем он вдруг вспомнил обещание, данное Филиппу. И вечером того же дня позвонил в дверь дома на улице Люксанбур.
К его изумлению, дверь открыла Анриетта.
Смущенные, они смотрели друг на друга.
Наконец Сен-Жюст сказал:
— По-видимому, это — знамение свыше. Какими судьбами вы здесь, милая Анриетта?
— А что вы находите в этом удивительного? — пожала плечами девушка. — Ведь Филипп постоянно отсутствует; каково же ей, бедняжке, оставаться одной в пустом доме.
— О, вы меня не так поняли, — пробормотал Сен-Жюст. — Я ведь в восторге от этого, я очень рад, что вижу вас…
В это время раздался голос Элизы:
— Анриетта, подружка, с кем это ты болтаешь?..
Они хорошо провели вечер, и впервые за много дней Сен-Жюст почувствовал себя умиротворенным. Элиза щебетала без умолку и по временам бросала на него ревнивые взгляды; Анриетта была сдержанна, и Сен-Жюст с радостью убедился, что между ним и девушкой устанавливается молчаливое взаимопонимание. Часов в девять пришел Филипп. Открыли бутылку вина, и под конец Сен-Жюсту не захотелось уходить, — с трудом заставил он себя подняться и откланяться…
После этого он зачастил к Леба.
Но вскоре приятные встречи стали более редкими, а затем и вовсе прекратились: обстоятельства заставили Сен-Жюста вновь с головой погрузиться в работу.
25 сентября член Комитета военный инженер Карно отправился в длительную миссию на Северный фронт. Руководство Военной секцией вновь перешло к Сен-Жюсту. Впрочем, теперь его напряженного внимания требовала не только одна Военная секция.
12
Тот Комитет общественного спасения, который станет называться «Комитетом II года», «Великим комитетом» или «Комитетом Робеспьера», в основном сформировался в течение лета и начала осени 1793 года.
Из «Комитета Дантона» в него перешли Барер, Ленде, Жанбон Сент-Андре и Приер из Марны. Эро де Сешель, Сен-Жюст и Кутон были избраны 30 мая. В конце июля появился Робеспьер, в середине августа — два военных специалиста, Приер из Кот-д’Ор и Карно. Движение 4–5 сентября ввело в Комитет двух депутатов, близких санкюлотам, — Бийо-Варенна и Колло д’Эрбуа. Вскоре после этого Комитет покинул последний остававшийся в нем дантонист — Тюрио.
Членов Комитета вскоре начнут называть «децимвирами».
[17] Все они в цвете сил: самому старшему, Ленде, не исполнилось и 48 лет, младшему, Сен-Жюсту, было 26. Их объединяли великий патриотизм, ненависть к тирании, любовь к справедливости и свободе. Разумеется, иной раз между ними вспыхивали разногласия, происходившие от разницы в их социальных симпатиях, неодинаковых темпераментов и общей переутомленности; но разногласия эти неизменно отступали перед общей угрозой внешнего удушения республики и необходимостью уничтожать внутреннюю контрреволюцию. И, стремясь разрешить эти задачи, они полностью забывали о себе.
— Все, что способствует сосредоточению на собственном гнусном «я», что пробуждает интерес к мелочам и презрение к великому, должно быть отвергнуто и подавлено, — говорил Робеспьер, выражая мысли своих товарищей по Комитету.
Комитет помещался в Тюильрийском дворце, или Дворце равенства, как его теперь называли. Еще 7 апреля он занял прежние апартаменты королевы. В то время как столяры, плотники, обойщики и драпировщики трудились над большим залом заседаний Конвента,
[18] децимвиры делили между собой пять комнат и темный коридор, выходивший на парадную лестницу, спускавшуюся к Карусельной площади.
Бывшая спальня королевы, так называемая «комната с колоннами», отошла под зал пленарных заседаний; в четырех остальных комнатах кое-как разместились секции и бюро.
Когда в июле в Комитет пришел Робеспьер, он остался недоволен подобной теснотой и неразберихой. Он тотчас решил подтянуть коллег и установить порядок.
Комитет стал расширяться. Он занял бывшие покои дофина, где раньше находился Комитет колоний, затем антресольные помещения, апартаменты короля, павильон Флоры и несколько небольших особняков на Карусельной площади. Наряду с залом заседаний были выделены кабинеты для каждого из децимвиров. Поскольку многим из них приходилось оставаться на ночь, в кабинетах этих появились и кровати.
Если в апреле — мае между членами Комитета не было разделения функций и каждому приходилось заниматься многими делами одновременно, то теперь все изменилось.
Комитет обладал общим секретариатом и распадался на семь секций и бюро. Каждая секция имела руководителя и штат сотрудников. Военной секцией руководили Сен-Жюст и Лазар Карно, получивший прозвище «организатор побед»; секцию вооружений возглавлял Приер из Кот-д’Ор, секцию продовольствия и транспорта — Робер Ленде. Барер и Робеспьер занимались преимущественно международными связями.
Но из этого не следует, что децимвиры были разобщены. Бертран Барер, по словам коллег «маравший бумагу с непостижимой быстротой», составлял письма и отчеты для многих секций и бюро, а Робеспьер вникал в дела каждой и каждого из них.
Члены Комитета вели подвижническую жизнь.
Они начинали рабочий день в семь утра в своих кабинетах, где запирались на три-четыре часа, чтобы прочитать и отправить корреспонденцию, а также продолжить или завершить работу, начатую накануне.
К десяти часам все сходились в большом зале. Здесь, не выбирая председателя и не ведя протокола, обсуждали общие дела; по некоторым из них, особо срочным или не вызывавшим споров, решения выносили сразу, остальные откладывали до прихода экспертов.
В час дня одни отправлялись в Конвент, иные продолжали совместный разбор текущих вопросов. Кто не успел позавтракать, тут же на месте утолял голод и жажду хлебом и водой; кто очень уж устал после бессонной ночи, тут же урывками отдыхал на походных кроватях, всегда стоявших в зале.
В пять — шесть часов устраивали перерыв: децимвиры шли обедать. Некоторые, семейные, обедали дома, большинство же столовалось в соседнем кафе, платя в среднем по 8 су за брата.
Через час-полтора заседание возобновлялось. Возвращались уходившие в Конвент, приходили за распоряжениями министры, появлялись вызванные накануне эксперты; повсюду сновали курьеры. Вечернее заседание длилось до часу ночи, а иногда и дольше. Иной раз утомленные сверх предела децимвиры теряли выдержку, и тогда — обычно это бывало за полночь — атмосфера накалялась. В этом случае ловкий Барер спешил остроумной репликой или веселым каламбуром вызвать смех и рассеять напряженность.
Так почти без передышки просиживая 15–18 часов в сутки и разбирая ежедневно до шестисот дел, они имели грошовый оклад, расстроенные нервы и удовлетворение праведников, истязающих себя во имя идеи.
В начале октября Сен-Жюст почти не появлялся в своей гостинице: он дневал и ночевал в Комитете, готовя но поручению коллег большой политический доклад.
К концу сентября положение республики продолжало оставаться тяжелым. Правда, меры, проведенные Сен-Жюстом на Северном фронте, приостановили наступление Кобурга и герцога Йоркского, а Карно начал успешно закреплять первые достижения новой военной стратегии Комитета. Мятеж в Кальвадосе был подавлен еще в конце лета, тогда же республиканские войска вступили в Авиньон и Марсель, 18 сентября ими был взят Бордо. Но Лион, главный центр роялистско-жирондистского мятежа, все еще продолжал сопротивляться Конвенту, а Тулон в конце августа был сдан роялистами англичанам. Именно известие о падении Тулона и вызвало взрыв ярости парижских санкюлотов 4–5 сентября.
Результаты сказались быстро.
Уже 5 сентября Конвент издал декреты о чистке революционных комитетов
[19] с целью изгнания умеренных, об аресте подозрительных и о создании Революционной армии.
13 сентября был обновлен состав Комитета общей безопасности, высшего органа надзора: дантонисты и умеренные были исключены, их заменили левые, среди них два человека, близкие Робеспьеру, — Филипп Леба и художник Давид. В тот же день Конвент постановил, что ответственным за списки всех комитетов будет Комитет общественного спасения.
17 сентября Конвент вотировал «закон о подозрительных», который расширял и уточнял постановление 5 сентября. В число подозрительных попадали родственники эмигрантов, чиновники, уволенные с работы, спекулянты и скупщики, а также все те, кто «своим поведением, связями, речами или писаниями показал себя приверженцем тирании и врагом свободы».
Одновременно декретировались экономические меры, предложенные санкюлотами. 11 сентября был введен максимум цен на зерно и муку, а 29 сентября Конвент принял закон о всеобщем максимуме. Этот закон вводил таксацию цен на все предметы первой необходимости и одновременно устанавливал ставки поденной заработной платы.
Сгруппировав эти факты, Сен-Жюст обнаружил, что им присуща глубокая внутренняя последовательность. Здесь все развивалось по цепочке, и каждое звено вызывало к жизни следующее, постепенно ломая устоявшиеся представления и явочным порядком создавая новые категории и институты, а соответственно и новые понятия.
Сен-Жюст, как и его друг Максимильен Робеспьер, был верным учеником Руссо. В духе Руссо трактовал он и проблему народного суверенитета. В духе Руссо составлены и его проект конституции, и его выступления в апреле — мае. Будучи сторонником свободы в широком смысле слова, Сен-Жюст, впрочем, уже в те дни начал понимать необходимость некоторых ограничений пределов частной собственности, слишком бурно развивающейся в ущерб санкюлотам. Однако лишь события осени 1793 года заставили его пересмотреть свои взгляды и прийти к новым выводам.
Цепь причин и следствий в его представлении раскручивалась так.
В центре стояла проблема обороны республики от внешнего и внутреннего врага, без решения которой дело революции было обречено на неминуемую гибель.
Для того чтобы решить эту задачу, нужна была армия, новая, народная армия. Сен-Жюст сделал все от него зависящее для создания подобной армии.
Армия создана, но ведь ее надо кормить, иначе она окажется бессильной. А как можно накормить сотни тысяч ртов, если богатый фермер, тот самый «буржуа», ради благополучия которого начиналась революция, припрятывает зерно и не желает его продавать или продает по спекулятивным ценам?
Чтобы покончить с этим — и здесь он, Сен-Жюст, также был пионером, — ввели реквизиции, заставляющие крупного фермера сдавать часть зерна по твердым ценам.
Однако стало ясно, что даже под угрозой штрафа богач сдавать зерно не станет, ибо ему выгоднее заплатить штраф, чем дешево отдать свой хлеб — предмет выгодной спекуляции.
Оставалось лишь одно: применить силу.
Но совместимы ли конституционные свободы с применением силы?
Проблему решил народ. Именно народный натиск заставил Конвент принять закон о всеобщем максимуме и одновременно с этим поставить в порядок дня революционный террор как единственную эффективную меру воздействия на богатых. Эти две меры, навязанные правительству санкюлотами, были двумя сторонами единого целого — системы общественного спасения, призванной заменить демократическую конституцию в период смертельной угрозы республике.
Действительно, чтобы успешно управлять экономикой и эффективно применять революционный террор, была необходима предельная концентрация власти. Была необходима подлинная диктатура общественного мнения, тот деспотизм свободы, о котором Марат пророчески говорил еще в первых числах апреля…
…Свой доклад, подготовленный по поручению Комитета общественного спасения, Сен-Жюст прочитал в Конвенте 10 октября.
— Почему после стольких декретов и стольких забот вновь нужно обращать ваше внимание на недостатки правительства в целом, на экономику и продовольствие? — спросил он депутатов и сам ответил: — Законы наши революционны, но их исполнители — плохие революционеры.
Это значило ясно представить себе сущность проблемы и четко поставить ее.
Конвент внимательно слушал.
— Настало время, — продолжал докладчик, — провозгласить истину, которая отныне не должна ускользать от внимания тех, кто управляет: республика упрочит себя лишь после того, как воля суверена подавит монархическое меньшинство и будет властвовать над ним по праву завоевания. Нельзя дольше щадить врагов нового строя; свобода должна победить любой ценой. Нельзя надеяться на благоденствие, покуда дышит хоть один враг свободы. Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных; нужно наказывать всякого, кто безразличен к республике и ничего не делает для нее. Ибо с тех пор, как французский народ изъявил свою волю, всякий, кто ей не подчиняется, остается вне суверена, а тот, кто не принадлежит к суверену, — враг народа…
Несколько сот членов Конвента напряженно внимали холодному и сдержанному молодому человеку, спокойно бросавшему им в лицо истины, от которых леденели сердца. Они повидали многое. Во время заседаний здесь часто вспыхивали ссоры, а иной раз и драки, и даже кое-кто хватался за оружие. Но такого…
А он продолжал:
— Если бы заговоры не вносили смуту в нашу державу, если бы родина не становилась тысячу раз жертвой снисходительных законов, было бы приятно управлять на основании принципов мира и справедливости. Но эти принципы приложимы лишь по отношению к друзьям свободы; у народа же и его врагов не может быть ничего общего, кроме меча. Там, где нельзя управлять на основе справедливости, приходится применять железо: нужно подавить тиранов…
Подвергнув резкой критике генералов, министров и весь бюрократический аппарат, докладчик утверждал, что безнаказанный грабеж царит повсюду. Богач, наживающийся на незаконных сделках, теснит и угнетает бедняка; те, кто должен по своему официальному положению бороться со скупщиками, сами занимаются скупкой; даже в военном ведомстве умудряются обворовывать солдат и красть корм у лошадей. Каждый думает только о себе, живет лишь своими материальными выгодами, охотно жертвуя интересами остальных членов общества. Все это, страшное само по себе, приобретает катастрофический характер в условиях иноземного вторжения.
— При таких обстоятельствах, — резюмирует Сен-Жюст, — наша конституция не может быть приведена в действие, ибо она сама станет причиной своей погибели: она окажется ширмой для преступлений против свободы, не имея силы их подавить.
Докладчик предлагает декретировать: правительство Франции останется революционным вплоть до заключения мира. Вся власть должна быть сосредоточена в руках Комитета общественного спасения при участии Комитета общей безопасности и под контролем Конвента.
Конвент принял его рекомендации. Они превратились в закон.
Сен-Жюст понимал важность того, чему положил начало. Он понимал и другое: его могли упрекнуть в непоследовательности. Не он ли был самым горячим сторонником той демократической конституции, которую ныне сам же отвергал?
Но он дал уже свой ответ и теперь мог повторить его тысячу раз: нет, он и не думал низвергать конституцию, наоборот, он всеми силами за нее боролся и считал, что конституция пока недостаточно демократична и нуждается в доработке. Эта доработка будет сделана, когда окончится война, когда придет победа. Если мы доживем до победы, это сделаем мы, если не доживем — сделают другие.
Но сейчас ведь идет война. И пока она идет, нам приходится заменять постоянно действующую конституцию конституцией временной, конституцией военного времени.
Разве от этого она становится менее демократичной? Разве она не отвечает интересам народа?
Вот в чем суть дела — пусть это будет понятно всем.
13
В этом докладе Сен-Жюст немалое место уделял депутатским миссиям в тылу и на фронте. Он был убежден, что такие миссии весьма полезны в борьбе с врагом, они углубляют и закрепляют революцию. Ему, человеку действия, не терпелось снова, но уже с более широкими полномочиями, отправиться в прифронтовую полосу.
К этому времени народные представители в миссии, особенно при армии, стали подлинным политическим институтом революции. Измена Дюмурье внесла в отношения между гражданскими и военными властями серьезные поправки, и Конвент серией декретов усилил их и закрепил. Специальная инструкция, составленная от имени Комитета общественного спасения Робером Ленде, дала общую схему поведения народного уполномоченного, касаясь военной дисциплины, снабжения, мобилизации местных ресурсов и отношений с администрацией; Сен-Жюст дополнил эту схему рядом пунктов, составивших в совокупности своеобразный кодекс комиссара, которым он был намерен руководствоваться сам и который рекомендовал всем представителям в миссии.
Чтобы рассчитывать на успех в борьбе с врагом, утверждал Сен-Жюст, армии необходима однородность, внутренняя устойчивость, постоянная сила духа и уверенность в победе. Представитель нации призван всемерно содействовать выработке этих качеств. Он обязан заменить неспособного генерала, гальванизировать робкого офицера, воодушевить солдата. Он должен быть готовым показать пример. А для этого в первую очередь ему самому надлежит быть примерным, образцовым, достойным доверия. Пламенный революционер, добродетельный гражданин, преданный народному делу законодатель, скромный, верный принципам, безукоризненно честный и цельный, он готов к самопожертвованию, но вместе с тем стоек, требователен и непреклонен в исполнении своего долга.
Он друг и отец солдата. Беспощадный к генералу, строгий к офицеру, он чуток и внимателен к рядовому. Он заботится о том, чтобы солдат был сыт, обмундирован, воспитан в республиканских принципах и не чувствовал себя ущемленным.
— Несчастный солдат, — уверял Сен-Жюст, — более несчастен, чем всякий другой человек; за что же сражается он, если ему нечего защищать, кроме правительства, которое покинуло его?..
Чтобы завоевать любовь и уважение солдата, посланец Конвента должен вести жизнь простого воина. Он спит в палатке, ест солдатскую пищу, не ведет дружбы с генералами, днем и ночью готов выслушать жалобу любого угнетенного.
Представитель в миссии, находясь постоянно на глазах у солдат и народа, обязан выработать свою манеру поведения, свой стиль работы. Он решителен, быстр, ничего не откладывает на завтра; он суров, но справедлив; он лаконичен — не только в речи, но и в поступках. Его постановления и приказы составлены кратко и ясно, они понятны всем; его прокламации читаются всеми и передаются из рук в руки. Не довольствуясь приказами, он убеждает. Ведя солдат к победе, он превращает их в добрых республиканцев…
Сен-Жюст полагал, что перед посланцем нации стоят два ряда задач. Первый включает проблемы немедленного значения. Сюда относятся надзор за генералами, заботы о единстве армии, ее обмундирование, снабжение и в конечном итоге обеспечение победы над врагом. Второй ряд составляют проблемы более отдаленного будущего: революционизация армии, создание устойчивой зкономики, разрешение социальных конфликтов, иначе говоря, стабилизация режима. Следовательно, представитель в миссии не только агент правительства, обязанный проводить волю Конвента в условиях кризиса; так же как и законодатель, он воплощает собой суверенитет народа и причастен к созданию нового общества. Единство национальной защиты, необходимое для сокрушения завоевателя, должно предварить формирование послевоенного облика единой и неделимой республики.
25 сентября на Северный фронт отправились депутаты Карно и Дюкенуа.
Во время отсутствия Карно Сен-Жюст снова взял на себя бремя Военной секции Комитета. Теперь его беспокоили дела в Эльзасе. Конечно, переброска сил на Северный фронт спасла Францию от вторжения с севера, но и оголила Восточный фронт. Положение на востоке приобретало все более угрожающий характер.
Со времени падения Майнца Рейнская и Мозельская армии терпели поражение за поражением. Вынужденные отступить, они поначалу пытались задержаться, первая — на Лаутере, вторая — к западу от Лаутера, до Саара.
Некоторое время Рейнская армия удерживала фронт по Виссамбурским линиям, проходившим к северу от Лаутера, но двукратная победа австрийцев Вурмзера при Виссамбуре и Лотербуре заставила ее снова отступить. В руки врага попал Агно, а Форт-Вобан и крепость Ландау — важнейший укрепленный пункт на северо-востоке, оставшись без прикрытия и поддержки, подверглись осаде.
Не лучшим было положение Мозельской армии. Разбитая при Пирмазенсе прусскими и гессенскими силами герцога Брауншвейгского, она оставила врагу две тысячи пленных и отступила к Саару, причем крепость Бич, долгое время служившая ей опорой, была блокирована врагом.
В результате обе армии Восточного фронта, отсеченные одна от другой, очутились в одинаково беспомощном положении; линия обороны была прорвана, открыв противнику путь в Лотарингию и Нижний Эльзас.
Сен-Жюст, понимая остроту положения, поспешил принять меры. Не имея возможности немедленно оставить Комитет, он провел решение о посылке в Эльзас депутатов Лакоста и Малларме с весьма широкими полномочиями и одновременно начал переговоры с Неподкупным по поводу своей поездки на фронт.
В течение августа — сентября Робеспьер категорически отказывал ему.
— Ты необходим Комитету, — утверждал Максимильен. — В армии справятся и без тебя, а здесь смертельная опасность угрожает родине ежедневно. Теперь, после отъезда Кутона
[20] у нас не осталось работников.
В начале октября, когда Антуан снова заговорил об Эльзасе, Робеспьер заметил:
— Ты же отправил туда Лакоста и Малларме!
— Но Лакост и Малларме — это не ты и не я, — отпарировал Сен-Жюст.
Робеспьер задумался.
— А кого бы ты хотел взять с собой? — спросил он после паузы.
— Еще не решил, — ответил Сен-Жюст.
— Возьми Леба.
Сен-Жюст удивленно вскинул брови.
— Ты это серьезно?
— Вполне.
— Но ведь он недавно вернулся!
— Вот и хорошо: он знает дело. Его миссия в августе была успешной.
— Но позволь, у Филиппа же медовый месяц!
— Затянувшийся медовый месяц погубил Дантона.
— И потом… Он, конечно, отличный малый, но… как бы это тебе лучше выразить… Он слишком мягок, у него нежная душа…
Глаза Робеспьера смеялись.
— Чудак, но в этом же все и дело. Он честен, великодушен, добр. Нам нужны такие люди — это противовес горячим головам вроде тебя, Бийо-Варенна или Колло Д'Эрбуа…
— Благодарю за приятную компанию.
— Не обижайся. Я, разумеется, не ставлю тебя на одну доску с этими ребятами, но ведь ты тоже непримиримый. Голубиная душа Филиппа ослабит твою чрезмерную суровость.
На этот раз задумался Сен-Жюст.
— Что ж, может, ты и прав, — промолвил он наконец. — Но мне никогда не простила бы этого Элиза.
— Простит, — заверил Робеспьер. — Ну вот мы и договорились. Впрочем, пока это лишь праздный разговор: твоя поездка не решена.
16 октября, в день, когда войска Северного фронта под руководством Журдана и Карно одержали победу при Ваттиньи, решившую поездку Сен-Жюста, оба друга, еще ни о чем не знавшие, мирно обедали в кафе Венюа. С ними рядом сидел Барер. Время приближалось к шести, кафе наполнялось публикой. Вошли несколько присяжных Трибунала.
— Уф, ну и денек сегодня, — громко сказал один из них.
— Весь Париж на ногах, — добавил второй, обращаясь к децимвирам.
— Вы это о чем? — удивленно спросил Барер.
— Как о чем? — перебивая друг друга, закричали вошедшие. — Или вы забыли, что сегодня в полдень подлая австриячка чихнула в мешок?..
Робеспьер и Сен-Жюст переглянулись; за делами они и правда забыли, что сегодня по приговору Революционного трибунала была гильотинирована бывшая королева Мария-Антуанетта…
Сен-Жюст вспомнил нарядную красавицу с капризно надутыми губами, которую он созерцал в июне 1790 года на празднике Федерации… Как давно это было!..
Между тем один из присяжных рассказывал о судебном заседании. Он смачно, под хохот завсегдатаев кафе, пародировал Эбера, который выдвинул против королевы обвинение в растлении малолетнего дофина.
Робеспьер брезгливо передернул плечами.
— Каков негодяй! — тихо сказал он Сен-Жюсту. — Мало того, что он сделал из нее Мессалину, он превратил ее еще в Агриппину!
[21]
Сен-Жюст, уткнувшись глазами в стол, задумчиво произнес:
— От этого акта народного правосудия нравы только выиграют!
— Выиграют, несомненно выиграют, — подхватил Барер. — И при этом не следует забывать, что гильотина разрубила очень крепкий узел дипломатии европейских дворов…
На следующий день в Париж вернулся Карно.
— Победа, друзья! — воскликнул он. — Блестящая победа, и я сообщаю вам о ней раньше, чем вы получите официальное извещение!..
Он подробно рассказал о подготовке и проведении битвы при Ваттиньи, покончившей с успехами союзников на севере, но при этом подчеркнул, что положение в Эльзасе ухудшается с каждым днем: австрийцы рвутся в Страсбург, а богачи Страсбурга, по слухам, тайно договорились впустить их в город…
Сен-Жюст вскочил.
— Еду сегодня же! — воскликнул он. — А ну-ка кто-нибудь составьте мне и Леба мандат, да, если можно, побыстрее!
Барер сел к столу.
— Каким числом пометить?
— Я же сказал, сегодняшним, — резко ответил Сен-Жюст.
И Барер написал:
«26-го дня, 1-го месяца, II года Республики».
[22]
Сен-Жюст схватил мандат, кивнул коллегам и помчался в Комитет общей безопасности.
Комитет был рядом, на Карусельной площади, в отеле де Брионн. Пройдя по дощатому переходу, Сен-Жюст очутился в темном коридоре, ткнул одну из хорошо знакомых дверей и вошел в главный зал Комитета. Там было всего трое: Вадье, Моиз Бейль и Леба. Вадье и Бейль о чем-то разговаривали, Леба писал.
Отозвав Филиппа в сторону, Сен-Жюст тихо сказал:
— Собирайся, мой друг, сегодня едем.
— Куда? — наивно осведомился Леба.
— В Эльзас.
— А, в Эльзас… Но почему в Эльзас?
— В миссию. Мы должны обеспечить победу Рейнской армии.
Только тут до Филиппа начал доходить смысл услышанного. Лицо его приняло сосредоточенное выражение.
— Позволь, значит, это надолго?
— Очевидно.
— А как же Элиза?
— Подождет. Ведь с ней останется твоя сестра.
Вид у Леба был растерянный. Сен-Жюсту стало жаль его. Но перерешать что-либо было поздно. Он вручил другу мандат.
Леба читал рассеянно, не вникая в прочитанное. Наконец поднял глаза на Сен-Жюста.
— Ты знаешь… — он запнулся. — Элиза… Ну словом, она беременна…
Сен-Жюст послал проклятие Робеспьеру. Ведь Неподкупному-то наверняка было известно об этом от Дюпле! Но он не пощадил их. Революция требует жертв…
— Революция требует жертв, — спокойно сказал он Филиппу.
— Да, понимаю, — заторопился тот. — А когда нам выезжать?
— Я ведь сказал тебе, да ты и сам видел число на мандате: сегодня.
— Сегодня? — переспросил Леба, В голосе его слышалось подавленное отчаяние.
Сен-Жюст, сделав вид, будто ничего не заметил, сказал:
— Мы выедем к вечеру, и поэтому у тебя есть время собраться.
Двое других прислушивались к разговору. Вадье, который считал себя первым лицом в Комитете, рискнул вмешаться.
— Позвольте, граждане коллеги, куда это вы собираетесь?
Не отвечая, Сен-Жюст протянул мандат.
— Но это же черт знает что такое! — заорал Вадье. — С нами совсем перестали считаться! У нас нет людей, все время толкуем об этом, и вот новый сюрприз. Мы не отпустим Леба!
Старый Вадье трясся от ярости. Его горбатый гасконский нос стал похож на клюв хищной птицы.
Сен-Жюст, не говоря ни слова, вышел.
Он вернулся в свой Комитет. В общем зале Робеспьера не оказалось. Тогда он поднялся в кабинет на втором этаже.
— Ты что, сердишься на меня? — спросил он Максимильена.
Тот часто заморгал близорукими глазами.
— А на самом деле сердиться-то должен я, — продолжал Сен-Жюст. — Почему ты не сказал мне, что Элиза беременна?
— А какое это имеет значение? — пожал плечами Робеспьер.
— Большое. Мне жаль ее. Мне жаль Филиппа. Надо было выбрать кого-то другого. Скажем, Девиля, с которым я уже ездил.
— Девиль не принадлежит к нашим комитетам, и мы о нем ничего не знаем. Что до Леба, то я ведь объяснил причину своего выбора, и ты со мной согласился. А об Элизе не беспокойся: здесь у нее столько опекунов и помощниц, что исчезновения мужа она почти не заметит.
— Ну прощай, — сухо сказал Сен-Жюст.
— Стой! — крикнул Робеспьер. Он подошел к другу и крепко обнял его. Так неподвижно простояли они несколько секунд.
— Иди, — тихо сказал Робеспьер, отстраняя Антуана, — спасай республику. Но при этом береги себя. И береги Филиппа, — его будущее дитя не должно остаться сиротой.
Сен-Жюст с удивлением смотрел на друга. Глаза Робеспьера были полны слез.
14
«1-го числа 2-го месяца. Солдатам Рейнской армии.
Мы прибыли и клянемся от имени армии, что враг будет разбит. Если есть среди вас предатели или люди, равнодушные к делу народа, то мы имеем меч, чтобы их покарать. Солдаты! Мы пришли, чтобы отомстить за вас и дать начальников, которые приведут вас к победе. Мы решили отыскивать, вознаграждать и повышать в чинах достойных и преследовать за преступления, кто бы их ни совершил. Мужайся, храбрая Рейнская армия, отныне тебе будет сопутствовать удача, и ты победишь».
Сен-Жюст отложил перо и передал листок секретарю.
— Поскорее в типографию, и чтобы завтра — на двух языках.
Он повернулся к Леба.
— Пусть это будет нашей первой прокламацией и нашей программой. Когда события развернутся, все узнáют, что мы не бросаем слов на ветер.
Филипп кивнул. Впрочем, лицо его не выражало полной уверенности. Лицо было сонным: он страшно устал и был готов согласиться со всем, лишь бы его оставили к покое.
Сен-Жюст понимал товарища. Он и сам чувствовал себя не лучше.
— Иди-ка вздремни, мой друг, — ласково сказал он.
— А ты?
— Еще посижу немного. Надо составить реляцию для Комитета.
Филипп замялся.
— Иди же, сейчас ты мне не нужен. И не забывай, что завтра рано утром мы отправляемся в Страсбург.
Убежденный, Филипп поплелся в соседнюю комнату.
Сен-Жюст помассировал виски и снова сел к столу. Разыскал среди груды бумаг рабочий блокнот, открыл записи последних дней…
…Эти два дня дали ему много. Недаром, загоняя коня, мчась сквозь леса и равнины, двадцать раз рискуя сломать шею и нарваться на вражеский патруль, он облетел все позиции и теперь представлял себе линию фронта Рейнской армии лучше, чем мог бы сделать это с помощью подробной карты. Он понял, что Саверн, расположенный у главного перевала через горную цепь Бьема,
[23] — заветная цель для противника: это ключ к Страсбургу и департаменту Верхний Рейн. Именно поэтому против Саверна, у Буксвиллера, Вурмзер расположил свои главные силы; именно поэтому и нам, прежде чем думать о контрнаступлении, нужны значительные силы для прикрытия Савернского ущелья и соседних перевалов.
Значительные силы… Но их-то как раз и не было!
Сен-Жюст воочию убедился в том, о чем раньше догадывался: там, в Париже, знали далеко не всё и подменяли иной раз жизнь схемами и дутыми цифрами. Сам Карно, профессионал, крупнейший специалист, безапелляционно утверждал, что Рейнская армия имеет сто тысяч бойцов, хотя в действительности нет и половины этого… После отступления от Виссамбурских линий многие батальоны потеряли до трети, а то и до двух третей состава. Ну а те, кто остался, — да разве можно назвать их армией? Это голая и голодная орда, покинутая офицерами, обглоданная интендантами, сбитая с толку тайной агентурой врага. На этих солдат нельзя смотреть без скорби и боли: их мундиры утратили цвет и покрой, а обувь — ее зачастую и вовсе нет. И это в преддверии зимы! Разве удивительно, что они поносят своих командиров? И что это за командиры! Недаром командующих Рейнской армией, всех одинаково безвольных и недееспособных, одного за другим смещали и отдавали в Трибунал: Шауенбурга, Дельма, Мунье, Карлана… Они ведь все из «бывших», и даже те из них, кто не предавал явно, оставались равнодушными к судьбам республики…
«…Мы имеем меч, чтобы их покарать…»
Нет, это не пустые слова.
Сен-Жюст пододвинул один из листков, лежавших на столе. Это был его «Приказ № 1», данный здесь, в Саверне. Отныне комиссия из пяти патриотов будет арестовывать, судить и расстреливать военных и гражданских лиц, виновных в преступлениях против родины. До полного изгнания врага. И так будет повсюду.
Сен-Жюст записал в блокноте:
«1. Одеть, обуть и накормить солдат.
2. Установить дисциплину и наказать предателей.
3. Потребовать у Комитета 12 батальонов для создания ударного корпуса в Саверне».
Он хотел было закрыть блокнот, но не закрыл: что-то еще беспокоило его, что-то важное… Наконец вспомнил.
Едва очутившись в Эльзасе, они с Леба были неприятно поражены множеством народных представителей, болтавшихся вокруг. Кроме Лакоста и Малларме здесь находились отправленные в разное время Конвентом Мийо, Гюйардан, Ниу, Рюам, Бори, Субрани, Генц, Кюссе и Эрман, не считая Эро де Сешеля, «наблюдавшего за резервами». Все эти посланцы (большинство их было известно Сен-Жюсту лишь по имени), мешая друг другу, издавали противоречивые приказы и только ухудшали дело.
Сен-Жюст написал:
«4. Добиться немедленного отзыва всех прочих представителей, которые не дают нам возможности проводить единую линию».
Ну, теперь, кажется, все. Можно приступать и к реляции…
Страсбург. Аргенторат древних галлов. Вольный город в эпоху средневековья. Столица Эльзаса. Один из своеобразнейших городов Франции — самый странный из тех, что довелось видеть Сен-Жюсту.
«Партикуляризм, — думал молодой комиссар, впервые проезжая по городу и с изумлением рассматривая сверкающие витрины магазинов, степенных бюргеров, что-то говорящих на своем языке, тут и там мелькавших офицеров, которым надо бы находиться при своих частях, чинных лакеев на запятках карет, занимавших всю ширину улицы, — партикуляризм, обособленность, полное безразличие к республике — вот что прежде всего характеризует столицу Эльзаса и ее обитателей. Они словно живут не в революционной стране, судорожно бьющейся за свою независимость, не в прифронтовой полосе, где днем и ночью слышатся артиллерийские залпы, а так, в некотором царстве, в тридесятом государстве».
В Страсбурге комиссары пробыли почти безвыездно со 2 по 25 брюмера.
Первые десять дней ушли на знакомство с положением в столице Эльзаса. И на самые срочные меры: организацию армии, контроль над командным составом, разрешение главных хозяйственных трудностей, заботу о безопасности города и — в связи со всем этим — проверку работы администрации. За эти дни Сен-Жюст и Леба издали десятки прокламаций, распоряжений, приказов. Они реквизировали обувь и проверяли солдатские пайки, вникали в работу лазаретов и обследовали артиллерийские парки, создавали комиссии для выявления подозрительных и налагали дисциплинарные взыскания на нерадивых
офицеров. Помогали комиссарам верные Тюилье и Гато, проводившие реквизицию продовольствия и фуража в соседних департаментах и часто наезжавшие в Страсбург.
Сен-Жюст делил население Страсбурга на три группы.
В первую входило подавляющее большинство: поденщики и мастеровые, малоимущие и неимущие санкюлоты, бедняки, замордованные патрициями, сбитые с толку войной и голодом.
Второй группой были сознательные патриоты якобинского настроя, те, на кого можно было опереться, единомышленники.
К третьей относились патриции, недоброжелатели и идейные враги, те, кого следовало подавить или во всяком случае обезвредить.
Бедноту нужно было накормить, одеть и просветить. Она могла бы стать оплотом и силой, способной обеспечить победу: ведь именно она составляла людскую массу, из которой предстояло набирать солдат местного призыва, те резервы, которые при отсутствии подкреплений из центра — а в них Сен-Жюст верил все меньше — должны были в решающий момент поразить и отбросить врага.
Нужны были, правда, деньги. Антуан быстро понял, и Филипп с ним согласился: их можно было получить, если заставить раскошелиться представителей третьей группы.
И правда, среди недоброжелателей и равнодушных — а Сен-Жюст не видел большой разницы между ними — преобладали финансисты, дельцы, обладатели крупных состояний: промышленник Дитрих, прежний мэр Тюркгейм, декан нотаблей миллионер Мейно, бывший начальник национальной гвардии Вейтерсгейм, профессор богословия Вильгельм Кох и, наконец, внушительная группа банкиров, возглавляемая Серфом Берром. Богатые либеральные буржуа, файетисты,
[24] застывшие в революции на уровне 1789 года, интеллектуалы и члены масонских лож — все они имели тесные связи со своими зарейнскими собратьями и держали в прочных сетях республиканскую администрацию, которая потворствовала их преступным сделкам.
Подавляя эту группу, полагал Сен-Жюст, ее следует прежде потрясти, принудительно изъять у богачей то, что они столетиями отнимали у народа, и вернуть ограбленным хоть часть принадлежащего им по праву. Этим, с одной стороны, был бы ослаблен враг, с другой — привлечен друг, да сверх того появились бы средства, достаточные, чтобы полностью обеспечить победу над иноземным захватчиком…
Для осуществления этой программы надлежало объединить патриотов, полностью использовать тех, кто предан якобинской партии и не побоится рисковать жизнью ради общего дела, иначе говоря, сплотить, организовать и целенаправить всех, входящих во вторую группу. Сен-Жюст понимал, что сделать это будет не просто, поскольку группа эта оказалась довольно пестрой и разнородной.
Главной опорой комиссаров должна была бы стать республиканская администрация, совсем недавно сменившая прежний административный корпус, верный Мейно и Тюркгейму. Но как раз администрация эта и не внушала доверия: беглая и выборочная проверка показала ее равнодушие, нерадивость, склонность к попустительству по отношению к богачам. Всего лишь несколько администраторов показались Сен-Жюсту и Леба достойными доверия; к их числу относились молодой савоец, энергичный Моне, избранный мэром вместо Тюркгейма около полугода назад, его правая рука, член муниципалитета Тетерель и мировой судья Нейман. Комиссары приблизили к себе коменданта крепости генерала Дьеша, из-за чего у них возникло первое разногласие с местным Народным обществом.
Генерал Дьеш, уроженец Руерга, был чужд политической борьбе, кипевшей в Эльзасе. Здоровяк с лицом бульдога, он покорил Сен-Жюста патриотизмом, выдержкой, исполнительностью. Однако, запросив у Народного общества деловую характеристику Дьеша, комиссары получили письменный ответ: «Пьяница и дурак».
— Пренебрежем, — сказал Сен-Жюст, бросая в огонь это послание. — Они ненавидят коменданта, во-первых, за то, что он для них иностранец, и, во-вторых, потому, что он власть, а они боятся власти. Нам же и то и другое только на руку…
Еще большее доверие Сен-Жюст и Леба испытывали к новому органу безопасности — Комитету надзора Нижнего Рейна, созданному незадолго до их приезда. Одну из главных ролей в Комитете играл австриец Евлогий Шнейдер, бывший викарий епископа, а ныне апостол веротерпимости, общественный обвинитель и редактор патриотического журнала «Аргус». Членами Комитета были те же Моне, Тетерель и Нейман, а также активные патриоты, якобинцы города, композитор Эдельман, священник Вольф и сапожник Юнг. Комитет надзора помогал комиссарам в выявлении подозрительных и реквизициях на местах. На него-то и рассчитывал опереться Сен-Жюст, осуществляя задуманную финансовую меру.
Впрочем, этого не потребовалось. Богатые граждане Страсбурга, трепетавшие перед неизвестностью, решили опередить комиссаров и, не желая того, сами подсказали им способ и форму действий.
День 9 брюмера угасал: неяркое осеннее солнце клонилось к закату. Часы на башне кафедрального собора пробили пять раз. Именно в этот момент они услышали цокот копыт и скрип колес.
Леба подошел к окну.
— Ого! К нам прибыла роскошная карета, одна из тех, что катят по улицам Брольи!
— Некогда катили по бывшей улице Брольи, — поправил Сен-Жюст. — Но кто же владелец сего необычного экипажа?
— Сейчас узнаем, поскольку он уже на пути к нам.
Действительно, раздался стук в дверь, и в следующую секунду появилась улыбающаяся физиономия, обрамленная редкими седыми волосами.
— Привет и братство, граждане комиссары, — прошамкал старик. — Я Мейно, здешний деловой человек…
Они с любопытством разглядывали визитера. Так вот он каков, богатейший негоциант города, признанный лидер патрициев… Хитрые подслеповатые глазки, беззубый рот, кривящийся в угодливой улыбке, черный потертый редингот…
— На ловца и зверь бежит, — беззвучно прошептал Сен-Жюст.
Старик опирался на палку, ноги его дрожали, шажки были мелкими и частыми.
— Разрешите присесть, граждане комиссары?
Сен-Жюст кивнул, затем спросил холодно:
— Что вам угодно, гражданин?
— Сейчас, сейчас, милые госпо… простите, граждане. Дайте прийти в себя.
— Наше время ограничено.
— Знаю и потому начну без предисловий. Нам известно, граждане…
— Кому это «нам»? Вы говорите не только от своего имени?
— И от своего. И от имени других. Всех подлинных патриотов и защитников республики…
— Гм…
— Точно так, патриотов и защитников республики. Итак, нам известно, что родина находится в тяжелом положении, что город, наш город, осажден врагом. И мы, как верные сыны Французской республики, всегда готовые к жертвам во имя общего дела, хотели бы предложить посильную помощь, так сказать, наш патриотический вклад…
Комиссары переглянулись.
— Мы предлагаем внести в военную кассу некую сумму денег — чем еще может помочь родине бедный старик, не имеющий сил держать ружье в руках?..
Руки Мейно и правда дрожали.
— Откуда взялась такая прыть? — тихо удивился Леба.
— Сейчас все поймешь, — так же ответил Антуан и обратился к посетителю: — Это похвально. Какую сумму вы могли бы предложить?
— Какую сумму? Каждый в соответствии со своими возможностями: один — сотню, другой — тысячу. Но уж во всяком случае на одежду и обувь для храбрых защитников Эльзаса, я думаю, набралось бы.
Сен-Жюст криво усмехнулся.
— Вы могли бы составить список жертвователей?
— Он готов, гражданин комиссар. Вот, возьмите. Здесь проставлены примерные суммы и указаны имена патриотов, готовых внести их.
Старик протянул сложенный вчетверо лист бумаги.
— Ну что ж, это похвально. — Сен-Жюст снова усмехнулся, помолчал, а затем вдруг, взглянув в окно, спросил совершенно иным тоном: — Вы приехали в карете?
— Разумеется. У меня больные ноги.
— У вас прекрасные лошади.
Мейно промолчал. Ему явно стало не по себе.
— Армия испытывает острый недостаток в лошадях, — ледяным тоном продолжал Сен-Жюст. — Вам придется сдать лошадей в артиллерийский парк. Сдайте заодно и карету.
Мейно молчал. Он был красен как рак.
— Вас сопровождали люди. Это лакеи?
— Закон не запрещает иметь слуг.
— Не запрещает. Но они молоды и здоровы, а у нас не хватает солдат. Им придется вступить в ряды армии.
Мейно вытирал шею клетчатым носовым платком.
— Мы не задерживаем вас больше, — сказал Сен-Жюст и отвернулся.

Он долго смеялся. Его забавляло недоумение друга.
— Зря ты его так, — сокрушался Филипп. — Ведь пришел он с благой целью!
— С благой целью? Так ты и правда ничего не понял?
— А что здесь понимать?
— Изволь, растолкую. Эта хитрая лиса приползла прямо из становища врага, чтобы бросить пробный шар и попытаться заткнуть нашу жадную глотку. Он решил дать нам нечто, чтобы мы не забрали все.
— Ты так думаешь?
— Уверен. «Кто сотню, кто тысячу»! Ха-ха-ха… А что скажете, почтенные господа, если мы попросим несколько миллионов?.. Короче говоря, этот прохиндей оказался ротозеем. Он подсказал решение. Мы поддержим их идею и устроим принудительный заем.
— Ну и хитрец же ты!
— Поневоле станешь хитрецом с подобными фруктами. Однако возьми-ка перо и бумагу — попробуем набросать черновик…
Утром 10 брюмера граждане Страсбурга читали указ народных представителей Сен-Жюста и Леба, расклеенный на всех улицах и площадях:
«…Убежденные в том, что родина не имеет неблагодарных сыновей, осведомленные о готовности граждан департамента Нижний Рейн… принять меры для изгнания врага, тронутые глубоким чувством, с которым состоятельные граждане Страсбурга выражали свою ненависть к врагам Франции и желание содействовать победе над ними…»
Обыватели читали. Им были хорошо известны все эти формулы и обороты, они пропускали их, спеша добраться до сути. А вот и суть:
«…Будет проведен заем в 9 миллионов ливров с граждан Страсбурга, список которых прилагается… Сумма займа должна быть внесена в течение 24 часов. 2 миллиона из общей суммы пойдут на оказание помощи неимущим патриотам Страсбурга, один миллион будет использован для укрепления крепости и 6 миллионов будут внесены в кассу армии».
Далее следовал список. Первые места в нем занимали промышленник Дитрих, крупные финансисты Серф Берр и Золикофер, негоцианты Мейно, Дилеман, Паске и Ливо. Не были забыты Тюркгейм и профессор Кох. Каждый из этих господ должен был уплатить максимальный взнос — 300 тысяч ливров. Далее шли более мелкие дельцы — торговцы и ремесленники средней руки, владельцы ресторанов и кафе, аптекари и парикмахеры, адвокаты и священники; взносы их уменьшались пропорционально состоятельности, самый мелкий равнялся 4 тысячам ливров…
…Позднее Сен-Жюст вспоминал, как трудно было взыскивать установленные суммы. Пришлось применить «малый террор»: начались обыски и аресты. Кроме того, он лично кое-что придумал и гордился этим…
В тот же день он вызвал военного коменданта.
— Генерал, — спросил он Дьеша, — в городе есть гильотина?
Дьеш просиял.
— Что, начнем рубить головы, гражданин комиссар?
— Потрудитесь ответить на вопрос.
— Никак нет, гражданин комиссар, в городе нет гильотины.
— Знаете ли вы ближайшее место, где она есть?
— В Мольсеме, гражданин комиссар. Там еще до вашего приезда по приговору Шнейдера отрубили голову нескольким изменникам.
— Прекрасно. Распорядитесь, чтобы к вечеру инструмент был доставлен и собран на центральной площади Страсбурга.
— Будет исполнено. — Дьеш улыбнулся и снова спросил: — Что, начнем рубить головы, гражданин комиссар?
Он тут же раскаялся в своем вопросе. Сен-Жюст, прежде чем ответить, держал свой тяжелый взгляд на нем в течение целой минуты. Затем сказал:
— Может статься, и головы. Но сейчас гильотина нужна мне не для этого.
«А для чего же?» — хотел было спросить комендант, но благоразумно воздержался. Вместо этого он повторил:
— Будет исполнено, гражданин комиссар.
Вечером застучали молотки…
Моросил дождь, но никто не расходился. Все смотрели на эшафот. На эшафоте, у самой гильотины, стоял старик. Руки его были связаны за спиной, а на груди висела доска с надписью: «Злостный неплательщик».
Все знали старика. То был миллионер Мейно, один из главных патрициев города. Он тихо стонал и конвульсивно вздрагивал, платье его обвисло, по щекам текли струйки… Прошло два часа, дождь усилился. И вдруг Мейно пронзительно закричал:
— Я согласен платить. Немедленно снимите меня отсюда!
Палач не спеша принялся развязывать его онемевшие руки…
…За вечерним чаем Сен-Жюст говорил другу:
— Итак, он заплатил. И увидишь, сейчас начнут платить все. Ибо ни Дитрих, ни Тюркгейм, ни все эти Берры, Дилеманы и Золикоферы не пожелают мокнуть на потеху толпе. Они заплатят — если и не в двадцать четыре часа, то в двадцать четыре дня. А это значит, что главным нашим заботам конец. Теперь самое время приступить к чистке администрации. Вот только найти бы подходящий предлог…
Но предлога искать не пришлось, он обнаружился сам собой.
15
Утром 12 брюмера ничто не предвещало бурных событий дня. Страсбург жил обычной, будничной жизнью. По улицам вместо недавних карет с грохотом следовали военные обозы. На площадях маршировали добровольцы. Вдоль тротуаров тянулись очереди к булочным и продовольственным магазинам. Толпы народа теснились у стен домов, читая свежие распоряжения коменданта и приказы комиссаров. И вдруг…
Вдруг разнеслась зловещая молва: предательство! Город будет сдан врагу!..
Кто-то рассказывал: накануне форпостами было перехвачено некое письмо. Содержание письма точно не было известно, передавались слухи о заговоре, об измене администрации…
В городе начиналось волнение.
— Они не желают успокаиваться, — рапортовал Дьеш. — Кафе и рестораны осаждены подозрительными, подзуживающими толпу; санкюлоты хотят немедленно расправиться со всеми аристократами города!
— Санкюлоты не дураки, но нам не нужен самосуд, — ответил Сен-Жюст. — С аристократами расправитесь вы. Немедленно арестуйте всех подозрительных, разберитесь: кого расстрелять, остальных в тюрьму.
Дьеш отдал честь и ушел, а Сен-Жюст протянул руку к письму, переправленному генералом Мишо народным представителям.
Собственно, оба комиссара уже изучили это письмо, и не было никакой нужды читать его снова. Подписанное неким маркизом Сент-Илером, оно утверждало, что многие роялисты, тайно пробравшиеся в Страсбург, подготовили мятеж и сдачу города австрийцам. Мятеж должен был вспыхнуть через три дня, все республиканцы подлежали истреблению.
— Ну, что скажешь, Филипп? — спросил Сен-Жюст.
— А что можно сказать? Я много прочел подобных документов — они пишутся иначе. По-моему, это фальшивка, подброшенная с провокационной целью…
— Но послушай еще раз последнюю фразу: «Члены муниципалитета, список которых у нас есть, будут пероколоты кинжалами. Остальные, наши друзья, останутся нетронутыми. Пусть они наденут белые шарфы».
— И ты веришь этому? — воскликнул Леба.
Сен-Жюст задумался.
— Верю ли я? — с расстановкой повторил он вопрос Леба. — У меня есть сомнения. Но какое мне дело, фальшивка это или нет, если она помогает мне против людей, которых я и так собирался сокрушить?
— Но письмо не называет наших врагов поименно.
— Тем лучше. Мы сможем убрать их всех.
Филипп вскочил.
— Как прикажешь тебя понимать? Да ведь в муниципалитете Страсбурга больше десятка человек!
— Я имею в виду не только муниципалитет Страсбурга. Мы уберем также всю администрацию департамента и дистрикта — туда могли просочиться враги. Неужели ты до сих пор не понял, что удар надо наносить, пока противник не опомнился? Неужели ты до сих пор не понял, что Вандея, Лион, Тулон возможны лишь потому, что мы упустили время и предоставили инициативу врагу? Нет, здесь не будет Вандеи. Мы нанесем удар первыми, и тогда он окажется смертельным…
13 брюмера в 8 часов утра был вывешен приказ за подписями народных представителей Сен-Жюста и Леба. Приказ смещал все административные власти департамента Нижний Рейн, а также весь муниципалитет Страсбурга и администрацию Страсбургского дистрикта. Исключения были сделаны лишь для мэра Моне и советников Може, Тетереля и Неймана. Все смещенные лица подвергались аресту и препровождению в тюрьмы Меца, Шалона и Безансона. На выполнение Дьешу давалось 24 часа.
Люди недоумевали. Почему вдруг без суда и следствия арестовывают администраторов, назначенных революционной властью лишь месяц назад? В чем они виноваты? И неужели все?..
Эти вопросы задавались на экстренном заседании Народного общества. Наблюдательный комитет делегировал мэра Моне для переговоров с народными представителями.
…Сен-Жюст, истомленный бессонной ночью, лежал на диване, отвернувшись к стене. Когда вошел Моне, он даже не повернул головы. Леба поздоровался с мэром и тотчас вышел из комнаты.
Моне чувствовал себя неловко. Его не пригласили сесть, с ним явно не собирались разговаривать. Он все же задал вопрос:
— Что произошло, граждане, чем вызван ваш странный приказ?
Ответа не последовало. Мэр повысил голос:
— Я пришел не как частное лицо. Меня уполномочило Народное общество. Мы имеем право на объяснение.
— Бросьте толковать о правах, — пробурчал Сен-Жюст. — Сейчас не время для объяснений. Народному обществу мы напишем сами.
Мэр не сдавался.
— И все же я желал бы знать, хоть в общих чертах, в чем дело?
Сен-Жюст приподнялся и с холодной яростью посмотрел на Моне.
— В общих чертах? Ладно. Запомни простую истину: когда хочешь найти в куче мусора мелкий предмет, ворошишь всю кучу. Понял? Вот тебе «в общих чертах».
— Понял, — ответил мэр. Он и правда понял, что дальнейшие расспросы бесполезны. Единственное, чего он добился, — не без содействия Леба — это выговорил ещё несколько имен, в том числе Юнга, из списка подлежавших аресту.
Днем прибежал Дьеш. Лицо его было краснее обычного.
— Уже успел нализаться? — спросил Сен-Жюст.
Комендант сорвался.
— А вы бы на моем месте, гражданин комиссар…
— Я никогда не буду на вашем месте, — высокомерно прервал его Сен-Жюст. — Но хватит излияний, говорите дело.
— Трудно мне, гражданин народный представитель. Одолевают жены, плачут дети. Все вопят о невиновности, молят о снисхождении…
— Стыдно, генерал. Не думал услышать от вас подобные речи. А ну подтянитесь!
Дьеш подтянулся. Он сообщил, что реквизировал четыре дилижанса, куда надеется запихнуть арестованных. К ночи можно будет трогаться.
— Вот это дело. Но я вижу, вы что-то мнетесь. Что там еще?
— Гражданин комиссар, арестованные просят, чтобы им дали дня два на сборы и приведение в порядок личных дел…
Сен-Жюст помрачнел.
— Вы читали приказ? Завтра к восьми, и никаких исключений!
Но тут не выдержал Леба.
— Флорель, дорогой, будем человечными! Среди них и невиновные!
Сен-Жюст рассеянно посмотрел на Филиппа. Потом сказал:
— Вы слышали, генерал? Мы не каннибалы. С арестованными обращаться человечно. Человечно, вам ясно, генерал?..
— Теперь остается выполнить обещание, данное армии, — заметил Сен-Жюст своему другу, — наказать предателей. Причем здесь нам не придется прибегать к столь массовым мерам.
— Кто-то есть на примете? — с сомнением спросил Леба.
— У тебя скверная память: не далее как вчера ты лично подписал ордер на арест главного администратора по снабжению Жана Каблеса.
— Помню это имя. Но в чем же вина бедного Жана Каблеса?
— Он далеко не бедный. Благодаря своим махинациям этот вор стал, надо полагать, одним из богатейших людей Страсбурга.
Дело Жана-Дидье Каблеса, проходившее в середине брюмера, всполошило Страсбург и весь департамент Нижний Рейн. Каблес был одним из главных администраторов по снабжению армии, занимал второе место после Бантаболя, генерального директора военного интендантства. Со дня прибытия в Страсбург Сен-Жюст с неослабным вниманием следил за деятельностью интендантства. «Мы не перестаем, — писал он в Комитет, — действовать для снабжения продовольствием столицы Эльзаса. Мы надеемся ее обеспечить, но хозяйственные службы армии сеют тысячи злоупотреблений; чтобы покончить с этим, мы думаем создать особую комиссию». Комиссия была создана тут же по приезде в Страсбург; в нее вошли Тюилье и Гато.
— Дайте почувствовать взяточникам, что жизнь их находится под угрозой! — внушал Сен-Жюст своим помощникам.
Впрочем, особенных внушений не требовалось. Тюилье и Гато отнеслись к делу с подобающей серьезностью и 12 брюмера подготовили объемистый доклад. Главным героем оказался Каблес; он был немедленно арестован. На следующий день к нему присоединили еще 14 человек, в том числе и самого генерального директора Бантаболя…
Обвинение, предъявленное арестованным, уличало их в нарушении закона о максимуме, в саботаже и обворовывании солдат. Каблес защищался как лев. Однако по указанию Сен-Жюста, изучившего доклад Тюилье и Гато, этот администратор сразу же был выделен как главный преступник, которому надлежало расплатиться жизнью за хищения.
Он был осужден и расстрелян перед строем. Умирая, он успел крикнуть: «Я погибаю за веру и короля!..» Это вполне подтвердило правоту Сен-Жюста.
Из числа других арестованных шесть торговцев были признаны виновными в незаконных сделках и присуждены к заключению до конца войны. Остальные, в том числе и Бантаболь, были оправданы.
Не успело рассеяться впечатление от этого дела, как Сен-Жюст ошеломил население и армию другим, еще более поразившим умы.
С самого начала своей миссии он был поглощен расследованием обстоятельств отступления от Виссамбурских линий. Он понимал, что это отступление, а точнее, паническое бегство, сломавшее дисциплину и поставившее под угрозу Эльзас, не может не иметь виновных. Конечно, и в этом Леба был прав, вина падала на прежнее верховное командование, давно привлеченное к ответу. Но главные преступники имели сообщников — офицеров и генералов, которым надлежало ответить за панику и деморализацию армии. Однако они продолжали гулять на свободе, сохраняя звания и должности.
Изучая с военным прокурором Брюа многочисленные досье и документы, Сен-Жюст сразу взял на подозрение начальника штаба Рейнской армии Бурсье, а также генералов Равеля и Дюбуа, причем двое первых были арестованы. Однако следствие обелило всех троих, и они были полностью реабилитированы — Сен-Жюст никогда не боялся признать свои ошибки.
Зато внимание его привлек бригадный генерал Айзенберг, и, чем больше занимался Сен-Жюст делом этого генерала, тем увереннее приходил к выводу, что нашел подлинного виновника отступления.
Утром 15 брюмера он вызвал Айзенберга для допроса.
У него внешность аристократа: полное холеное лицо, белые руки с ухоженными ногтями, чистый отутюженный мундир. Он спокоен, смотрит прямо в лицо и держится с едва уловимым оттенком наглости.
«Это хорошо, — думает Сен-Жюст, — именно таким я и представлял тебя. Сейчас мы собьем с тебя спесь».
Он берет из рук Леба дело Айзенберга и начинает его листать. Это для вида: он знает дело наизусть…
…Генерал Айзенберг незадолго до отступления от Лаутера командовал фортом Реми, важным пунктом между Рейном и Бьенвальдом. Падение этого форта явилось, по-видимому, сигналом к общему бегству…
— Итак, генерал, — говорит Сен-Жюст, окончив перелистывать бумаги, — вы позорно бежали…
— Что значит «бежал»? — мягко возражает Айзенберг и ни единым жестом не выдает беспокойства. — Мы отступали точно так же, как части справа и слева от нас, перед превосходящими силами противника.
— Справа и слева? Перед превосходящими силами? У нас другие сведения, генерал. Справа и слева части продолжали оставаться на местах, пока ваше позорное бегство не создало угрозы прорыва… Что же касается «превосходящих сил противника», то там, по-моему, оказалось не более трех десятков австрийских гусар?
— Их никто не считал! — вырвалось у генерала.
— Никто не считал? Тем хуже, тем хуже… Пытались ли вы, по крайней мере, удержать форт, отстреливались от противника?
— Еще бы. Отстреливались до последних сил!
— Вы лжете, генерал, и этим подписываете себе приговор, — сказал Сен-Жюст и пододвинул к допрашиваемому несколько бумаг. — Вот, взгляните: эти документы неопровержимо свидетельствуют, что форт Реми был оставлен вами без единого выстрела.
Айзенберг не стал смотреть бумаги. Он был красен и смущен. Впервые его срывающийся голос выдал волнение:
— Это неправда… Ваши документы подтасованы… Все было иначе…
— А, так вы не считаете нужным ознакомиться с доказательствами? Вы с головой выдаете себя, генерал. — Сен-Жюст с шумом захлопнул папку. — Вот ваше дело. Я передаю его военному прокурору…
…Генерал был расстрелян во рву гейнгеймского редута 19 брюмера. Вместе с ним нашли смерть несколько офицеров его штаба. Эта казнь повергла высший командный состав в оцепенение: первый раз в истории Рейнской армии расстреливался бригадный генерал.
19 брюмера комиссары снова отправились в Саверн инспектировать войска прифронтовой полосы. С радостью убедились в переменах.
— Общая подготовка завершена, — подытожил Сен-Жюст, когда вечером на постоялом дворе они ложились спать. — Теперь можно утвердить дату общего наступления.
Он достал свой блокнот и нашел запись, сделанную здесь же, в Саверне, 1 брюмера.
— Помнишь, — спросил он Филиппа, — в ночь с 1 на 2 брюмера мы наметили четыре пункта программы на первое время?
— Не могу помнить, — ответил Филипп, — поскольку не участвовал в названной операции: я мирно спал в это время. Кстати, я и сейчас безумно хочу спать.
— Подожди минутку. Послушай, что я записал в ту памятную ночь: «Одеть, обуть и накормить солдат; установить дисциплину и наказать предателей; потребовать у Комитета 12 батальонов для создания ударного корпуса в Саверне; добиться немедленного отзыва всех прочих представителей, которые не дают возможности проводить единую линию».
— Что ж, мудро, — зевая, сказал Леба. — Программа правильная.
— А теперь скажи положа руку на сердце, сумели мы выполнить ее?
Леба подумал. Пошевелил губами. Потом утвердительно кивнул:
— Выполнили.
Сен-Жюст улыбнулся.
— Если так, можно спать спокойно. А ну-ка, друг, погаси свечу!..
Но спать он не мог. Филипп давно уже похрапывал, а он все вертелся с боку на бок и тщетно призывал объятия Морфея. «Выполнили», — уверенно сказал Филипп. Так ли это? Кое в чем все же не выполнили. Правда, не по своей вине.
Ведь Комитет так и не прислал 12 батальонов. Пришлось обходиться собственными силами. Сен-Жюст верил в санкюлотов и не ошибся, но все же это были не 12 батальонов хорошо обученных регулярных войск…
Да и «всех прочих представителей» не отозвали. Сен-Жюст дважды повторял просьбу, прямо написав Комитету, что не может работать рядом с опозоренными людьми, вроде Эро де Сешеля… Только после вмешательства Робеспьера Конвент издал 13 брюмера постановление, отзывавшее прежних комиссаров. Но не всех. При Мозельской армии остались Лакост и Бодо, уже начавшие мешать своим рейнским коллегам…
Впрочем, все это не так уж и важно. Если говорить о главном, то Филипп прав: выполнили. Принудительные займы в Страсбурге и Нанси дадут по крайней мере 10 миллионов; это солидно. Это позволит поддержать не только солдат, но и их семьи, оставленные в тылу. Уже сейчас сотни тысяч франков отосланы дистриктам и муниципалитетам Страсбурга, Виссамбура, Матценгема, Вестхауза и многих других мест, пострадавших от войны или укрывших беженцев. Реквизиции уже одели и обули армию: получено 17 тысяч пар обуви, до 30 тысяч рубах, 1400 шинелей, 1900 шапок и многое другое. Воры-снабженцы выявлены и обезврежены. Солдаты накормлены. Спрашивается, может ли это все не повлиять благотворно на дисциплину?..
Да, дисциплина наконец установлена. И дисциплина сознательная. Комиссары во всем доверяют солдатам, а солдаты дорожат этим доверием. Он, Сен-Жюст, всегда советуется с солдатами по поводу увольнений и назначений командиров. Он разрешает взводам и ротам самим утверждать всех своих офицеров. Он поддерживает любые меры, ведущие к укреплению братских отношений между солдатами и между целыми подразделениями войск. Совсем недавно, например, восемь рот гренадеров из департаментов Роны и Луары, Майенна и Манша, все из гарнизона Страсбургской крепости, попросили, чтобы их не разлучали. Тронутые подобными чувствами, комиссары торжественно присвоили этим ротам наименование «Батальона друзей».
Он обещал армии покарать предателей и сдержал свое слово. Он пристально изучал поведение и личные дела офицеров, устранял бездеятельных и арестовывал «бывших». Военный трибунал, выполняя его волю, в течение двадцати дней брюмера вынес одиннадцать смертных приговоров. Но он не только карал. Он и поощрял. Деятельные офицеры, преданные службе и долгу, получали награды и быстро повышались в чинах. И он, и Леба особенно поддерживали новых людей, офицеров и генералов, вышедших из простого народа, из рядовых санкюлотов, — таких, как командующие Рейнской и Мозельской армиями генералы Пишегрю и Гош.
«Опираясь на подобных командиров, ведя за собой сознательную, хорошо экипированную и боеспособную армию, да еще имея прочный тыл, — подумал Сен-Жюст, уже засыпая, — можно и должно совершить чудеса. Воистину чудеса!..»
16
День выдался солнечный, тихий. Небо над головой сверкало ослепительно, чуть ниже голубело, а у горизонта становилось акварельно-синим. Даже наверху, на самом плато, ветра почти не чувствовалось, только морозный воздух слегка покалывал щеки.
Это был подарок: ведь день мог оказаться и ветреным, и дождливым, тот единственный день, который они сумели вырвать для передышки.
Передышка же была остро нужна, можно сказать, необходима. Завершение подготовки наступления и этот рывок по всему фронту стоили гигантских усилий; только молодость и крепкое здоровье комиссаров помогли преодолеть напряжение. И вот сегодня тишина, ни грохота орудий, ни криков солдат. Линия фронта ушла далеко на север. Саверн стал тыловым пунктом. И все эти горы, ущелья, перевалы из военных объектов превратились просто в живописные места, в ту нерукотворную, вечную и прекрасную природу, для наслаждения которой в нашей жизни остается так мало времени…
— Все, — сказал Сен-Жюст утром 8 фримера. — Будь что будет, а мы с тобой сегодня махнем в горы.
Филипп не поверил ушам, и друг его счел нужным пояснить:
— И здесь, и на фронте спокойно: первый этап наступления окончился, перед вторым необходима пауза. Завтра-послезавтра подойдут подкрепления и прибудет оружие. Враг смят и терроризован — в ближайшее время не шелохнется. Что еще?
— А срочные депеши из Комитета? А поток курьеров из частей? Да и многое другое — уж будто ты не знаешь.
— Сегодня не хочу знать. Ничего не случится. Подождут. К тому же здесь остается Вилье, круглосуточно бдят дежурные, и если что, не дай бог, стрясется, нас найдут и известят. А сейчас быстро седлай коней — и в горы. В горы, и никаких отговорок!..
…Да, сегодня он ничего и ни о чем не хотел знать. Вся эта история с генеральным планом и с потерей темпа наступления опустошила его. Впрочем, это можно было предчувствовать, и он предчувствовал, хотя долгое время гнал от себя подобные мысли.
С самого начала он не нашел общего языка с Комитетом, или, если быть точным, с одним из членов Комитета, с Лазаром Карно. Конечно, Карно, только что одержавший победу на севере, был самым опытным из военных специалистов Конвента и Комитета. И все же, слишком уверенный в себе, он многое проморгал. Карно не дал резервов, затягивал отозвание лишних комиссаров, настаивал на своем никуда не годном стратегическом плане…
Ко времени их отъезда в Эльзас Комитет общественного спасения не имел планов операций. Ситуация была меняющейся и неясной; данные о численности войск не соответствовали истине, силы были распылены, связь между ними отсутствовала. При этом Рейнская армия находилась в худшем положении, чем Мозельская: она удерживала более протяженный фронт и была значительно растянута. Все это Сен-Жюст вполне уразумел уже в первые дни; именно тогда он понял, что Саверн — уязвимейший пункт, и потребовал те 12 батальонов. Обнаружив, что в столице его не хотят понимать, он повторил свое требование две недели спустя, на этот раз более решительно. Но Комитет по-прежнему не спешил с присылкой батальонов. Вместо этого Карно прислал свой стратегический план. Он рекомендовал сосредоточить силы обеих армий у Саарвердена и атаковать с левого фланга, сначала освободив Ландау, а затем зажав врага в клещи между Ландау и Страсбургом.
Сен-Жюст, понимая опасность подобных действий, отказался следовать плану Карно. Не рассчитывая больше на подкрепления, мобилизуя местные людские ресурсы, он прежде всего укрепил Саверн, дабы избежать внезапного прорыва, а затем предполагал начать совместное наступление по всей линии фронта с главными ударами на Бич, Буксвиллер и Агно. Этим, полагал он, были бы созданы исходные рубежи для удара на Ландау без риска быть окруженным австрийцами.
Упорство и здравые аргументы Сен-Жюста победили. В Комитете его поддержал Робеспьер. Карно отступил, он даже занялся изысканием контингентов в Северной и Арденнской армиях для временной переброски в Эльзас. Но чего стоило добиться этого! И главное, сколько драгоценного времени зря ушло…
…Лошадей оседлали быстро. Проехав дорогой, хорошо знакомой по прежним инспекциям, миновали Савернское ущелье и свернули к Бьему. Лошадей привязали внизу у ручья и, распихав по карманам свертки с провизией, начали подъем.
— Сколько раз мечтал я, — признавался другу Сен-Жюст, — в дни, когда мы вихрем проносились мимо, забраться сюда, побродить, а может быть, попытаться залезть и выше; ведь в детстве я был отчаянным смельчаком и больше всего любил лазить по горам и деревьям.
— А кто же из мальчишек не любит этого? — подхватил Филипп. — Я тоже когда-то страдал этой болезнью.
Подъем закончился. Они были на плато. Сказочная картина открылась их глазам.
Плато простиралось на несколько лье, дальше, вдоль всего горизонта, тянулась горная цепь Бьема. Вершины гор были осыпаны снегом, ослепительно белевшим на солнце. Кое-где склоны зеленели от пихт и елей, кое-где краснели золотом опавших листьев, темнея в промежутках островками засохшей травы. Этот пестрый ковер на фоне голубого неба выглядел почти фантастично. И не менее фантастично, словно копируя пейзажи старых мастеров, на одной из вершин выделялись живописные развалины древней постройки.
Друзья стояли зачарованные.
— Как ты думаешь, что бы это могло быть? — прервал наконец молчание Сен-Жюст, указывая на развалины.
— По-моему, какой-то разрушенный форт, — сказал Леба.
— Тебе везде мерещатся форты. Откуда здесь может быть форт и для чего он нужен на вершине? Я полагаю, что старинный замок.
— А замки разве строили так высоко?
— Ты удивляешь меня. Феодальные замки всегда строили именно таким образом. Возьми, к примеру, Шато-Гийяр или Фалез.
— Для замка как будто он маловат…
— Но древние замки не были большими. К тому же, учти, его уменьшает расстояние.
— А все-таки, — подумав, сказал Леба, — это — современное крепостное сооружение. Быть может, австрийское. Уходя, они разрушили его.
Сен-Жюст громко расхохотался.
— Не сердись, — с трудом останавливаясь, сказал он. — Я не хотел тебя обидеть, но это нелепица. Какие австрийцы? Зачем им здесь укрепление? Они, конечно, стремились овладеть ущельем и перевалами, но для этого не нужно было строить форт на горе. Впрочем, не будем спорить. Предлагаю: доберемся и решим все на месте.
— А доберемся ли? — с сомнением взглянул на развалины Леба.
— Мы-то? — удивился Сен-Жюст, — Не ждал такого вопроса от человека, в детстве лазившего по горам. Не сомневайся. К тому же нас никто не гонит сегодня, спешить не будем.
— Тогда пошли…
…И правда, сколько драгоценного времени, пропало даром! Если стратегический план Карно в конце концов удалось забраковать, то как долго еще продолжалась глухая борьба с теми, кто действовал на месте, в Эльзасе, и, казалось, делал то же, что и мы…
Сен-Жюст не зря с первых дней добивался отзыва других комиссаров. И добился. Но, пользуясь тем, что он и Леба числились только при Рейнской армии, кто-то в Комитете (конечно, Карно!) настоял, чтобы при Мозельской тоже были два комиссара — Бодо и Лакост, с которыми — увы! — отношения не сложились…
Первое время, пока комиссары обеих армий находились в Страсбурге, Бодо искал встречи, но Сен-Жюст и Леба постарались от нее уклониться. Сен-Жюсту, помимо прочего, не нравилось поведение обоих комиссаров. Не нравилось, что те грубо афишировали себя, самоуправствовали и предавались сибаритству. Мэр Моне показал множество записок от Бодо и Лакоста, в которых те требовали от муниципалитета заграничных вин, первосортных яств и хороших девочек. Но дело конечно же было не только в этом.
Марк-Антуан Бодо, бывший медик, депутат Законодательного собрания и Конвента, близкий приятель Дантона, внушал Сен-Жюсту такое же отвращение, как и сам Дантон. Умеренный, он, дабы стать неуязвимым в эпоху начинающегося террора, постоянно играл на преувеличениях. Так, если Сен-Жюст арестовывал начальника национальной гвардии Страсбурга, Бодо тут же арестовывал весь штаб; если Сен-Жюст сажал в тюрьму десяток подозрительных граждан, Бодо спешил посадить сотню; если Сен-Жюст высылал ничем не проявивших себя администраторов, Бодо стремился обречь их на гильотину. Впрочем, все это были цветочки. Ягодки пошли, когда дело коснулось верховного командования.
К началу зимней кампании с прежним генералитетом было покончено. Во главе Рейнской и Мозельской армий стояли новые люди — дивизионные генералы Жан Шарль Пишегрю и Лазар Гош. У них было много общего. Оба сыновья крестьян, оба молодые (Пишегрю было 32 года, Гошу — всего 25 лет), оба начали службу рядовыми. Генералами их сделала революция, оценившая их патриотизм, рвение и военные таланты. Но они и сильно отличались друг от друга темпераментом и поведением. Гош был горяч, храбр до безрассудства, самонадеян и упрям; Пишегрю — холоден, спокоен и осторожен. Гош всегда стремился проявить самостоятельность, Пишегрю был исполнителен и точен. Комитет и военное министерство, назначая Пишегрю и Гоша командующими двух эльзасских армий, первенство все же оставляли за Пишегрю: Бушотт уведомил Сен-Жюста и Леба, что в случае объединения армий, а таковое уже намечалось, Гош должен был оказаться под началом Пишегрю; самого Гоша, однако, не поставили в известность об этом. Сен-Жюст безоговорочно подчинился указаниям Бушотта, тем более что Пишегрю произвел на него самое благоприятное впечатление. Комиссар оценил спокойствие генерала, его дисциплинированность и скромность — этими качествами он всегда дорожил в подчиненных. Поэтому с самого начала комиссары Рейнской армии передавали все свои распоряжения только через Пишегрю. Зато Лакост и Бодо, зная, как и их рейнские коллеги, всю подноготную, оценили пикантность положения и мертвой хваткой вцепились в командующего Мозельской армией: они поняли, что этого одаренного, но своенравного генерала будет легко противопоставить Пишегрю, а стало быть, и их сопернику — Сен-Жюсту.
Одним словом, к началу наступления, так тщательно всесторонне подготовленного Сен-Жюстом и Леба, появились досадные осложнения, особенно печальные потому, что шли они не от врага, а от своих…
…Прогулка была очень приятной. Они шли рука об руку, вдыхая свежий морозный воздух, любуясь природой и словно забыв о войне, о врагах, обо всем, что наполняло их жизнь в последние месяцы. Филипп разоткровенничался и поведал другу о всех извивах своего романа с Элизой. Он безумно любил жену и, страшно скучая без нее, каждый день строчил ей отчеты о своих делах и еще более — о своих чувствах.
— Единственная теневая сторона этого чудного солнечного дня — та, — прибавил он со вздохом, — что я не смогу сегодня написать моей Элизабет…
— Напишешь завтра, — сказал Сен-Жюст.
— Уж завтра-то обязательно… И расскажу ей обо всем…
Исповедь друга тронула Антуана. На момент в нем шевельнулось желание ответить откровенностью на откровенность. Казалось, Филипп ждал этого. Но не дождался. Сен-Жюст овладел собой и переменил тему разговора.
— Вот мы почти и пришли. Теперь последний рывок — и неизвестность окончится. Хотя она уже окончилась. Теперь-то надеюсь, видишь?..
— Это может быть и форт.
— Форт? Ну ладно, пусть будет форт. А ну полезли наверх!..
…Лазар Гош, несмотря на свои неполные 25 лет, успел пройти суровую школу жизни. Сын крестьянина-псаря, он познал и нужду, и несправедливость, и палочную муштру старой армии. Он был одним из тех, кто безоговорочно примкнул к революции. Рядовой стрелок в 1784 году, капрал в 1789-м, потом сержант национальной гвардии Парижа, он вступил в ряды добровольцев первого призыва в чине капитана. Проявив героизм и талант, отличившись при Неервиндене, в мае 1793 года он стал генерал-адъютантом, в сентябре — генералом бригады, в октябре — генералом дивизии, после чего сразу же возглавил Мозельскую армию. Этот сказочный взлет, эта карьера, удивительная даже для революционной эпохи, не сделала Гоша гордецом: чуткий к солдатам, простой и открытый с офицерами, он умел привлекать сердца. Однако он знал себе цену. Постоянный успех, непрерывные победы научили его распоряжаться людьми. Ни при каких обстоятельствах не уступил бы он первенства тому, кого считал менее способным и менее достойным. Это сразу же понял Бодо и возблагодарил судьбу, связавшую его с подобным человеком. Это не сразу понял Сен-Жюст, чем в будущем осложнил и общее, и свое личное положение.
16 брюмера в Фальсбурге состоялась первая встреча Гоша и Пишегрю. Были обсуждены детали и сроки наступления. Гош существенно дополнил и уточнил план Сен-Жюста. Он наметил, что сразу после взятия Бича из частей Мозельской и Рейнской армий будет создан ударный корпус для вторжения в Цвейбрюккен, где, угрожая левому флангу противника, заставит его немедленно отступить, открыв прямой путь на Ландау. Генеральное наступление, полагал Гош, следовало планировать на 21 брюмера. Пишегрю, не высказав каких-либо замечаний, полностью согласился с Гошем. Так с самого начала командующий Мозельской армией взял верх над своим предполагаемым начальником, фактически подчинив его волю. Бодо и Лакост
аплодировали; Сен-Жюст закусил губу. Тем не менее он и Леба были готовы утвердить план и дату наступления, предложенные Гошем.
Однако 21 брюмера наступление все же не состоялось. В том не были повинны ни Гош, ни Сен-Жюст; вина целиком падала на Пишегрю и Карно: первый не смог своевременно доставить Гошу обещанные 10 батальонов, второй задержал присылку резерва из Арденнской армии. Срыв наступления имел серьезные последствия. Вечером 24 брюмера стало известно о падении Форт-Вобана, важнейшего укрепленного пункта между Рейном и Модером. В Саверне началась паника. Теперь надо было наступать во что бы то ни стало — это понимали и комиссары и генералы.
Новая и окончательная дата генерального наступления была назначена на 27 брюмера…
…Когда наконец, преодолев крутой подъем, они достигли вершины, Леба не удержался и высказал давно занимавший его вопрос:
— Каким же образом доставляли сюда строительный материал?
— Одна из вечных загадок, — ответил Сен-Жюст. — Столь же трудно понять, как поднимали афиняне камни для своего Акрополя…
Они с любопытством рассматривали кладку полуразрушенной стены.
— Что-то на замок не очень похоже, — съязвил Филипп.
— Не меньше, чем на форт, — в тон ему ответил Антуан.
— Но посмотри: вот сторожевая башня! Она хорошо сохранилась.
— В первый раз слышу, чтобы форт располагал подобными сторожевыми башнями. Скорее это донжон.
Тут пришла очередь расхохотаться Филиппу.
— Донжон… Или ты думаешь, что я полный неуч? Ведь каждому известно, что донжон строили в центре двора. Только в центре, слышишь, знаток?..
Сен-Жюст опустил голову.
— Ты прав, возразить нечего. Теперь ясно: нужен специалист. Но что бы это ни было, постройка древняя: обрати внимание на кладку.
— Уже обратил.
— Стало быть, ее не могли воздвигнуть австрийцы, как кое-кто недавно предполагал, — улыбнулся Сен-Жюст.
— Не могли, согласен. А теперь, когда наши шансы уравнялись, не худо бы заглянуть внутрь…
Через пролом в стене они прошли во двор. Внутри двора оказалось несколько полуразрушенных зданий; одно из них примыкало к стене и заканчивалось высокой башней без кровли.
— Заберемся наверх, — Сен-Жюст указал на башню.
Леба кивнул.
По стершейся, выщербленной винтовой лестнице они стали подниматься наверх. Двигаться приходилось в полутьме, пробуя каждую ступеньку. Миновав две промежуточные площадки, они достигли верхней, открытой, здесь, ослепленные ярким солнечным светом, несколько секунд ничего не видели, а потом, пораженные, словно окаменели.
Они находились на одной из самых высоких точек Бьема. Необъятная панорама на все стороны света открылась перед ними. Напротив хорошо различалось ущелье, за ним — город. Среди городских зданий выделялась церковь; все это казалось кукольным, ненастоящим. С трех сторон тянулись бескрайние горы, леса, долины, превращавшиеся в легкую дымку, сливавшуюся по горизонту с небом.
Молча стояли они, любуясь сказочным зрелищем, испытывая ощущение какого-то мифического дедаловского полета, тем более что здесь ветер, почти не чувствовавшийся на плато, гудел в ушах и обжигал кожу. Наконец молчание нарушил Леба.
— Чудо, право же чудо. Но никак не пойму одного. Почему, если отсюда так хорошо виден Саверн, из Саверна совершенно не видна эта крепость?
— Она видна, вероятно, если хорошо присмотреться. Но скажи, большим ли кажется тебе отсюда город?
— Не очень. С ладонь, не больше.
— Вот и ответ на твой вопрос. Из Саверна эти развалины выглядят не больше точки, поставленной пером. Не больше вот этой движущейся точки, которую ты видишь направо внизу.
— А что это за точка?
— Вероятно, всадник: если бы был пешеход, движение казалось бы более медленным. Однако насмотрелись, довольно. Давай закусим. Не знаю, как ты, а я голоден…
…На заре 27 брюмера по всей линии фронта началось движение. Республиканские войска по плану Сен-Жюста и Гоша наступали одновременно в центре и с флангов, чтобы обмануть противника и скрыть главное направление удара. Этот маневр удался. По истечении 36 часов французы взяли Санкт-Ингеборг, Рорбах, Бликскастель, Брюмат и окружили Буксвиллер — место скопления австрийских войск, угрожавших Саверну. Под прикрытием флангов корпус Гоша быстрым броском овладел Бичем, занял Хорнбах и 1 фримера вступил в Цвейбрюккен.
Повсеместное наступление французов застало союзников врасплох. Если Вурмзер пытался сопротивляться и к северо-востоку от Бича начал быструю перегруппировку сил, то пруссаки герцога Брауншвейгского отступали почти без боя, что дало возможность Гошу направить движение правого фланга Мозельской армии на Пирмазенс.
Сен-Жюст и Леба, встретившись с Гошем в начале наступления, возвратились в Саверн, где наблюдали за движением левого фланга Рейнской армии. 30 брюмера они стали свидетелями взятия Буксвиллера генералом Бюрси. Удовлетворенные первоначальными успехами, спокойные за Саверн, комиссары покинули зону боев.
2 фримера они снова встретились с Гошем на его главной квартире в Цвейбрюккене. Гош рапортовал о ходе операций. Сообщив о предстоящем взятии Пирмазенса — город действительно был взят два дня спустя, — юный полководец поделился с комиссарами своими опасениями. В то время как Мозельская армия победно шла вперед, правое крыло Рейнской топталось на месте, застряв у Вантценау, в нескольких десятках лье от Страсбурга. Это создавало угрозу австрийского прорыва у самой столицы Эльзаса. Необходимо, заключил Гош, чтобы Рейнская армия ускорила развертывание, без чего нельзя и думать о совместных действиях обеих армий.
Сен-Жюст не мог не согласиться с Гошем. Покинув Цвейбрюккен, он и Леба снова направились в Рейнскую армию и 4 фримера встретились с Пишегрю. Настроение главнокомандующего им не понравилось. Впрочем, дела правого фланга Рейнской армии действительно были не блестящи. Обещанное Карно подкрепление не прибывало. В ответ на мольбы Пишегрю Гош перебросил ему шесть батальонов, но они также застряли в пути, тогда как Вурмзер явно готовился к контрнаступлению в районе Брюмата — Вантценау. Сен-Жюст немедленно вызвал резервы из Страсбурга, и положение выровнялось; но думать о новой атаке до прибытия свежих сил в этом районе не приходилось. Сен-Жюст и Леба, простившись с Пишегрю, вернулись в Саверн. Именно тогда-то, 8 фримера, ему и пришла злосчастная мысль об этой передышке…
…Вместо стола они использовали каменную плиту, сидеть же пришлось на полу. Они развернули свертки с нехитрой провизией, вынули походные фляги и с аппетитом принялись за еду.
— Пью за победу, — сказал Филипп и добавил: — А все-таки, друг мой, мы, кажется, поставили не на ту лошадку.
Сен-Жюст вздрогнул; он думал о том же.
Отправляясь на прогулку, они дали друг другу слово не думать и не говорить о войне. Но разве можно выбросить из головы и сердца то, что является главным, чему они отдали все свои силы?
— На первый взгляд, — ответил он после раздумья, — это действительно так. Гош даст сто очков вперед Пишегрю, Гош чертовски талантлив. Но… не будем спешить. У меня предчувствие, что он еще выкинет фортель. Он рвется вперед и забывает о тылах, о продовольствии, о фураже. Сейчас фронт неровен, опасаюсь, как бы Гош, мечтая о славе и легкой победе, не вытянул его еще больше, — тогда может произойти разрыв наших сил и еще бог знает что.
Филипп пожал плечами.
— Если у тебя подобные мысли, какого же черта мы не приняли своевременные меры? И какого черта полезли сегодня в эти горы?
Сен-Жюст опорожнил флягу. Он хотел было сказать, что все эти мысли лишь сейчас пришли ему в голову, что он не бог и не может все предвидеть и предусмотреть, что, наверное, предчувствие беды, которое вдруг его охватило, порождено какими-то событиями, происходящими там, внизу… Однако вместо всего этого он бросил небрежно:
— Могу ответить тем же: какого черта? О чем ты думал?
«Я слишком полагался на тебя, и, потом, я вовсе не хотел сюда ползти», — подумал Филипп, но промолчал.
— Это рок, — сказал чуть слышно Сен-Жюст, отбросив флягу.
Он подошел к краю площадки. Лицо его внезапно стало озабоченным.
— Подойди-ка сюда, — обратился он к другу. — Смотри, как выросла эта точка, движущаяся по направлению к нам. Это уже не точка, а всадник, он вполне различим. Догадываешься, кто это?
— Догадываюсь, — воскликнул Леба. — Бросаем все — и вниз.
Спуск оказался более трудным, чем подъем. С курьером они встретились на плато, на середине пути. Сен-Жюст вырвал пакет, вскрыл и, прочтя первые строки, испустил страшный крик.
— Мерзавец!.. Каналья!.. Собачье дерьмо!.. — вопил он. — К дьяволу его, в Комитет общей безопасности, в Трибунал!..
Леба, пробежавший послание, положил руку на плечо Антуана.
— Тебе изменяет обычное хладнокровие, и ты говоришь глупости. Какой Комитет? Какой Трибунал? Сейчас нельзя срывать его с места, нельзя даже ругать, ибо все может рухнуть, и наступление захлебнется.
— Оно уже захлебнулось, — более спокойно ответил Сен-Жюст и прибавил: — Ты прав. Возьмем себя в руки. Напиши этому подлецу…
…Позднее, в Биче, они узнали подробности. Гош, не посоветовавшись ни с кем и нарушая план Комитета, решил использовать видимую слабость пруссаков, сделать мощный рывок и овладеть Кайзерслаутерном, важной немецкой крепостью в тылу Ландау. Тщетно Пишегрю, догадавшийся о его планах, умолял не делать безрассудного шага — Гош уже сделал его. Отрываясь от соседних частей, упрямо идя вслед за коварным Брауншвейгом, он овладел Ландштулем и приблизился к Кайзерслаутерну, когда прусский полководец сбросил маску и перешел в контратаку. Лишенный продовольствия и резервов, под угрозой окружения, Гош отступил; затем отступление превратилось в бегство. Цвейбрюккен, Пирмазенс и соседние пункты были потеряны. Мозельская армия отходила к старым рубежам.
Комиссары понимали, что ситуация требовала всестороннего обсуждения в Комитете. Отправив Гошу успокоительное письмо и сделав необходимые распоряжения в Саверне и Страсбурге, они отбыли в Париж.
17
Фример — месяц изморози. Середина фримера — первая неделя декабря по старому календарю, время, когда начинали готовиться к рождеству и Новому году. Республиканский календарь уничтожил праздник рождества и покончил с католическим Новым годом. Фример II года Республики стал месяцем безбожия. Генеральный совет Коммуны постановил закрыть все церкви Парижа, а собор Нотр-Дам был превращен в «Храм Разума». Священники публично отрекались от сана. По улицам столицы шли толпы «богомольцев» — веселых санкюлотов, потрясавших крестами и хоругвями — знаками «проклятого фанатизма». Люди пели:
Не служить попам обедни,
Не обманывать людей…
Ударим же дружней
Сегодня на ханжей!
Сен-Жюст и Леба, проезжавшие 14 фримера по улицам Парижа, только переглядывались, слушая подобные куплеты.
Казалось бы, удивляться не приходилось. У них в Эльзасе, как и во многих провинциях Франции, антикатолический всплеск прошел еще в брюмере. 30 брюмера в кафедральном соборе Страсбурга, превращенном в местный «Храм Разума», торжественно отпраздновали отказ от старого культа. Евлогий Шнейдер, а за ним и его приверженцы сложили сан и заклеймили религию, как католическую, так и протестантскую. Не обошлось без курьезов. Бывший сапожник Юнг не побоялся встать на защиту «санкюлота Иисуса», в то время как пропагандист Делатр назвал Христа «величайшим мошенником на земле».
Леба и Сен-Жюст были в это время на театре войны. Но они не остались чужды движению, рассматривая его как один из аспектов борьбы с эльзасским партикуляризмом. Их участие в «дехристианизации» выразилось в подписании перед отъездом в Париж двух указов, один из которых предлагал разбить религиозные статуи, окружавшие кафедральный собор, и вывесить на его башне трехцветное знамя, другой касался вывоза в столицу утвари, конфискованной в церквах Страсбурга. Кощунственных же манифестаций они в Эльзасе не видели, антирелигиозных куплетов не слышали и теперь были всем этим несколько удивлены.
У Дюпле их ждали с нетерпением. Тут были и Элиза, переехавшая на время отсутствия супруга в родительский дом, и ее верная Анриетта, не замедлившая улыбнуться Сен-Жюсту, отчего у молодого комиссара потеплело на сердце. К началу обеда подошли еще несколько завсегдатаев салона гражданки Дюпле. Все бурно приветствовали друзей.
— Вы делаете большое дело, — сказал, пожимая им руки, Давид. — Какой благородный пример для других депутатов в миссиях!
— Да, — подтвердил Робеспьер, — не все так заботятся о престиже республики; вести из Лиона и Нанта куда менее утешительны.
За столом разговор также вертелся вокруг эльзасской эпопеи. Комиссары делились воспоминаниями, рассказывали забавные случаи и эпизоды.
— Вот вам любопытный пример, — сказал Робеспьер, — который как нельзя лучше характеризует моего сурового коллегу и друга. Некий жандарм явился в бюро народного представителя Сен-Жюста с просьбой предоставить ему отпуск. У него-де дома осталось состояние в 40 тысяч ливров, и он беспокоится о судьбе своего имущества. Он просил также дать ему на дорогу солдатский паек и фураж для лошади. Сен-Жюст тут же вынес решение. Поскольку жандарм предпочел свои личные интересы судьбе отечества, он объявлялся трусом и дезертиром. Он подлежал разжалованию перед строем и заключению в тюрьму. Этот письменный приказ Сен-Жюст вручил ошарашенному жандарму с тем, чтобы тот сам отдал его коменданту Страсбурга… Ну, что скажете на это?
За столом раздались дружные аплодисменты.
— А ведь так оно и было! — воскликнул Леба. — Быстро же все становится известно.
— В данном случае это совсем неплохо, — заметил Робеспьер.
— Я надеюсь, ты так же умерен и человеколюбив, как и в своей прошлой миссии, и дурные примеры тебя не заражают? — спросила Элиза своего супруга.
Вместо ответа он поцеловал ее. Но Сен-Жюст, сидевший рядом, расслышал слова Элизы, быть может умышленно произнесенные недостаточно тихо, и счел нужным возразить:
— Не беспокойся, милая Бабетта, дурные примеры его не заражают, он точно такой же среди врагов, как и дома, под твоим крылышком.
— Да уж надо думать — он не чета некоторым…
— Довольно вам пикироваться, — возмутился Робеспьер. — А тебе, гражданка Леба, давно уже пора простить разлучника.
— Я простила его, — со вздохом сказала Элиза, продолжая нежно смотреть на Филиппа. — Но мне право же хочется, чтобы мой муж всегда оставался таким же добрым и великодушным, каким я знала и знаю его.
— Но при этом не давал бы потачки пруссакам и австрийцам, — добавил Робеспьер.
— Послушай, Бабетта, — снова вступил в разговор Сен-Жюст, — я тебе поведаю нечто, и ты увидишь, что ошиблась в своем милом. Слушайте и вы все, друзья. Однажды, между двумя боями, к нам в бюро явился пьяный артиллерист. Да, он был настолько пьян, что не мог даже изложить свою просьбу и только икал. Я арестовал пьянчугу и отправил в тюрьму. Тут вдруг явился Филипп и — что вы думаете? — дал мне взбучку. А где же забота о рядовом? Где чуткость к меньшему брату своему?.. И так далее и тому подобное. Что же я? Сознаюсь, устыдился и немедленно отправил курьера, чтобы узнать, в чем заключалась просьба канонира, и незамедлительно исполнить ее…
Многие засмеялись; рассказчику послышалось, что Анриетта — громче других.
— Или вот, — продолжал он, изумляясь своей говорливости. — Некий кавалерист, потерявший в схватке коня, обратился ко мне за инструкциями. Лишних коней у нас не было; я дал бедняге письменное распоряжение: временно покинуть поле боя и отправляться в резерв. Взбешенный кавалерист, едва взглянув на предписание, разорвал его в клочки. Я не люблю подобных шуток. Подозвав конвой, я отдал приказ расстрелять безумца на месте. Но к счастью, рядом был Филипп. Он остановил меня, заметив, что храбреца следовало бы не расстрелять, а наградить. По здравом размышлении я согласился с моим коллегой…
Снова все дружно зааплодировали.
— Я знал, что делаю, — сказал вполголоса Робеспьер, обращаясь к Элеоноре.
Между тем многие встали из-за стола. Вокруг Сен-Жюста образовалась группа.
— Ты становишься легендарным, — сказал Давид. — Твои выражения повторяет весь Париж: они сделались крылатыми.
— Вот это, например, — подсказал стройный брюнет, внимательно прислушивавшийся к разговору, — «Мы не принимаем от врага и не посылаем ему ничего, кроме свинца».
— А по какому поводу это было сказано? — поинтересовался Дюпле.
— Эти слова были сказаны австрийцам, предложившим переговоры.
Сен-Жюст внимательно посмотрел на брюнета. Робеспьер уловил этот взгляд.
— Да ведь вы незнакомы. Флорель, рекомендую пламенного патриота и человека необычной судьбы — Филиппа Буонарроти.
— У нас появился еще один Филипп, — улыбнулся Сен-Жюст, пожимая руку Буонарроти. — А ведь я, гражданин, много слышал о тебе.
[25]
Действительно, он слышал о новом посетителе салона гражданки Дюпле, да и кто из подлинных патриотов не знал этого итальянца и гражданина Французской республики, потомка Микельанджело и верного ученика Жан-Жака? Питомец Пизанского университета, борец со старым режимом, комиссар Конвента на юге Франции, он прибыл в Париж, когда Сен-Жюст и Леба находились в Эльзасе, и вошел в ближайшее окружение Робеспьера.
Буонарроти стал украшением салона гражданки Дюпле. Натура тонкая, артистичная, он превосходно играл на клавесине и занимался композицией. Вот и сейчас по просьбе гостей он сел за инструмент и взял первые такты какого-то романса…
— Начинается музыкальная часть, для нас сегодня необязательная, — шепнул Робеспьер Антуану. — Поднимемся ко мне.

— Ты удивлен антирелигиозными маскарадами, — сказал он, поправляя фитиль лампы. — К этому мы вернемся, а пока есть дела и поважнее. Меня волнует наше общее положение.
— Но ведь жирондисты казнены.
— Да, казнены. Все: и Бриссо, и Верньо, и Жансонне, и их восемнадцать соратников. Казнена и прекрасная Манон, ступившая на эшафот вслед за бывшим герцогом Орлеанским.
— Я знаю об этом из газет.
— Но ты, очевидно, не знаешь, что перед смертью они держались с редким мужеством и умирали с пением «Марсельезы».
— Ты словно жалеешь о них.
— Нет, я просто вспоминаю… С ними вместе изживаются их мятежи — республика почти покончила с этим. Но вот беда: «государственные люди» оказались не последней нашей заботой.
— Что ты имеешь в виду?
— Нарушение единства в нашей среде. Представь себе: Гора распалась, монтаньяры, некогда дружно боровшиеся против Жиронды, теперь борются друг с другом…
И он рассказал Сен-Жюсту следующую историю.
…Как-то в двадцатых числах брюмера в дом на улице Сент-Оноре рано утром явился депутат Шабо, отнюдь не принадлежавший к числу близких людей Неподкупного: бывший капуцин, человек скользкий и двуличный, он сильно скомпрометировал себя браком с сестрой двух австрийских банкиров, пользовавшихся дурной репутацией. Робеспьер принял Шабо. Предъявив толстую пачку ассигнаций, бывший капуцин заявил, что его вовлекли в финансовый заговор, который он желал бы разоблачить. Робеспьер порекомендовал своему визитеру немедленно обратиться в Комитет общей безопасности, что Шабо и проделал. Его донос Комитету поддержал депутат Базир.
Шабо и Базир обвиняли группу членов Конверта, хотевших нажиться при ликвидации хищнической Ост-Индской компании. Во главе всей аферы стояли депутаты Делоне и Жюльен из Тулузы, тесно связанные с авантюристом бароном де Батцем и поставщиком армии д’Эспаньяком. Чтобы действовать наверняка, ажиотеры думали втянуть в игру Фабра д’Эглантина, видного дантониста, главного докладчика по вопросу об упразднении акционерных обществ, а также рассчитывали на поддержку самого Дантона. С другой стороны, эти же лица, по утверждению доносчиков, подкупили некоторых деятелей Коммуны во главе с Эбером; эбертисты должны были шельмовать честных депутатов, опасных для аферистов. К числу пострадавших причислял себя и Шабо. Чувствуя себя под угрозой, он вступил в сношения с заговорщиками, взял у них деньги для подкупа Фабра, но сделал это якобы с единственной целью — выдать заговорщиков…
— От этого дела исходит дурной запах, — сказал Сен-Жюст.
— Весьма, — подтвердил Робеспьер. — Причем доносители выглядят не лучше, чем жертвы доноса. Тем не менее мы внимательно выслушали Шабо и Базира, поскольку рассказанное ими живо напомнило нам нечто…
— Ты имеешь в виду донос Фабра д’Эглантнна?
— У тебя отличная память.
Память у Сен-Жюста и правда была отличная, но забыть происшедшее 12 октября было бы трудно, даже имея плохую память…
В тот день депутат Конвента, драматург и автор республиканского календаря Фабр д’Эглантин потребовал, чтобы его выслушали члены обоих правительственных Комитетов, и требование его было удовлетворено. В числе десяти членов правительства, выделенных для этой цели, оказались Робеспьер, Сен-Жюст, Леба и Давид.
Фабр начал с обвинения иностранных правительств, стал яро бранить вражескую агентуру, а затем сообщил, что им раскрыт антиправительственный заговор. В центре заговора, согласно Фабру, находились Проли, Дефье и Перейра. Бельгийский банкир, австрийский подданный Проли, собутыльник Дантона и Демулена, личный секретарь и осведомитель Эро де Сешеля, с помощью Дефье, знавшего тайны Якобинского клуба, и Перейры из Бордо, подвизавшегося в столичных секциях, сумел объединить секционные народные общества и создал Центральный комитет, соперничавший в популярности с Коммуной и Клубом. Встревоженные комитеты в конце сентября отдали приказ об аресте группы Проли, однако Эро добился их освобождения. И вот теперь, утверждал Фабр, эти трое, еще в тюрьме связавшись с видными эбертистами, объединились с дельцами, агентами Австрии и Пруссии для шпионажа, диверсий и подрыва могущества республики. Их послушным орудием стал Эро, продавший им ряд правительственных секретов, а также депутаты Жюльен и Шабо. Ведь недаром Шабо добился снятия печатей с банка Бойда, английского шпиона и личного финансиста Питта! И тот же Шабо принял живое участие в судьбе австрийских шпионов, моравских банкиров Добруска, пребывавших во Франции под фамилией Фрей
[26] и выдавших за него свою красавицу сестру с двумястами тысячами приданого…
— Ну и что же ты скажешь? — спросил Робеспьер, дав другу время вспомнить и осмыслить все эти подробности.
— Скажу, что, на мой взгляд, доносы Фабра и Шабо — две части единого целого.
— Согласен. Скажу больше: мне абсолютно понятно происхождение второго доноса — доноса Шабо.
— Объясни.
— Вы ведь в то время были уже в Эльзасе, а я видел все… Донос Фабра заставил нас всполошиться. Был арестован кое-кто из эбертистов и агентов Эро, самого же Эро фактически отстранили от дел. За Шабо, Базиром, Жюльеном и другими был установлен тщательный надзор. Их стали изводить допросами и упреками у Якобинцев. И не эти ли нападки, лишив Шабо душевного равновесия, вынудили его в конце концов сделать донос?
— Весьма вероятно. Но что же заставило выступить Фабра? Что заставило его донести на Шабо и Жюльена, своих единомышленников?
— Этого я пока не знаю. Однако, думаю, и здесь все прояснится.
— А как отнеслись комитеты к доносу Шабо и Базира?
— Мы решили арестовать и тех, на кого доносили, и тех, кто доносил. Правда, Жюльен и Батц успели скрыться, что же до остальных, они в одиночных камерах Люксембургской тюрьмы.
— Это разумно. А дальше?
— Создана комиссия для расследования под председательством Амара; комиссия работает тайно. К ней прикомандирован и Фабр.
— Вот это зря. Я не верю Фабру.
— Я тоже. Но пока он ничем не скомпрометировал себя.
— И все же ему не следовало поручать ведение дела, к которому он причастен; он будет заметать следы и исказит всю картину.
— Этого ему не позволят сделать.
— Будем надеяться. А как с Дантоном? Ведь Шабо затронул и его.
— Только косвенно. И вообще, Дантон держится молодцом.
— Ты всегда был склонен идеализировать Дантона.
— Нет, совсем нет, — с жаром возразил Робеспьер. — кому-кому, а мне-то хорошо известны все слабости Дантона. И тем не менее повторяю: Дантон держится молодцом.
— В каком смысле прикажешь тебя понимать?
— Вернемся к началу нашего разговора: к антирелигиозным маскарадам. Ты думаешь, это минутная блажь народа? Ничего подобного. Это рассчитанная программа, один из важнейших аспектов деятельности крайних. Народ создал культ мучеников свободы: он чтит память Лепельтье, Шалье, Марата. Однако банда Эбера, использовав народный энтузиазм, пошла дальше: она приступила к уничтожению всякого культа, а это прямой путь к полной дезорганизации общества. Почин положил Фуше в Ньевре, за ним двинули Эбер и Шометт. Тогда-то и стали закрываться церкви, а духовенство — отрекаться от сана. И результат; наши агенты из провинции доносят, что «огонь тлеет под пеплом» — крестьянство готово подняться против нас! Вот к чему привела пресловутая «дехристианизация», вот за что должны мы благодарить Эбера, Шометта и их подголосков.
— Все это бесспорно. Но при чем же здесь Дантон?
— Не будь нетерпеливым. Вернувшись в Париж из Арси, Дантон сразу ринулся в бой. В Конвенте, в Клубе — повсюду он стал яростно выступать против «дехристианизаторов», да так ловко, что подлецы отступили. Шометт первым, за ним остальные начали каяться в своих «заблуждениях». То, что ты видел, — последние судороги. Я произнес большой доклад, и, думаю, завтра Конвент утвердит декрет о свободе культов. Вот чем мы обязаны Дантону: без него я так легко не сокрушил бы дезорганизаторов.
— С его стороны это тактический ход.
— От этого он не теряет важности. Характерно, что свора пыталась отомстить Дантону. Сейчас проходит чистка в Клубе. И вот ультра вчера попытались добиться его исключения. Но я взял его под защиту и спас положение.
— А стоило ли это делать? Его исключение было бы нам на пользу.
Робеспьер задумчиво посмотрел на Сен-Жюста и ничего не ответил.
Рано утром он был в Комитете; пришел первым и заперся у себя в кабинете — ему предстояло изучить документ, лишь вчера утвержденный Конвентом, — знаменитый закон 14 фримера.
— Ты будешь обрадован, — сказал Робеспьер. — По существу, это кодификация твоих мыслей, вывод из доклада о Революционном правительстве.
Но Сен-Жюст не находил своих мыслей. Нет, это был труд Робеспьера, и хотя главная идея действительно принадлежала ему, Сен-Жюсту, она приняла в законе иное претворение.
Казалось бы, все начальные положения закона были верны. Здесь было точно сказано и о Конвенте как о «движущей силе правительства», и о комитетах как о высших органах надзора. Он не мог возразить против более четкого подчинения администрации правительству, против превращения прокурора Коммуны в простого «национального агента» или против выделения дистрикта в основную административную единицу. Но в его представлении конституция военного времени должна была выдвинуть принципы. Здесь же давались обязательные рецепты на все случаи общественной жизни, словно законодатель забыл, что жизнь значительно шире любых указаний и рецептов. Сен-Жюст был человеком действия, политиком быстрых, лаконичных и эффективных мер, которые предполагали полную свободу распоряжений и поступков делегированного правительством лица. И как могло быть иначе, пока шла война, свирепствовала контрреволюция и ничто не устоялось, не приняло ясных и оконченных форм?
Его размышления нарушил Робеспьер.
— Ты чем-то недоволен, Флорель?
— Сегодня я доволен всем, но не знаю, что будет завтра.
— Этого никто не знает. А чего опасаешься ты?
— Да ведь могут арестовать и отправить в Комитет общей безопасности.
— За что? — совершенно серьезно спросил Робеспьер.
— За нарушение закона. Я облагал богачей, что ныне запрещается, и действовал по своему разумению, а не по параграфу, что ныне есть криминал.
— Не беспокойся. Закон обратной силы не имеет, — и бровью не повел Робеспьер.
— И на том спасибо. Однако горько все же. Стараешься, из кожи лезешь вон, вроде чего-то добился — и псу под хвост.
— Чепуха, сам знаешь, что чепуха. Сделанное вами не пропадет. А впредь, конечно, нужно соразмерять свои силы с «параграфами». Закон — великое дело. Где нет закона, наступает царство эберов.
— Но как твой закон может определить, чтó необходимо в данный момент, в данной обстановке? Ведь только совершенное знание местных условий дает верное решение.
— Верное решение… Не спорю, ты, Леба, Кутон, Буонарроти всегда примете верное решение. Но есть и другие, кого неопределенность закона может подвинуть на злое дело.
— Бездоказательно.
— А Фуше, расстрелявший картечью тысячи людей в Лионе? А Карье, забавлявшийся в Нанте потоплением священников? Ведь они и подобные им действуют также «во имя революции». Вот на них-то и рассчитан новый закон. Он заставит их держаться в рамках…
Зал заседаний оказался полупустым: многие члены Комитета находились в миссиях, другие занимались обычными делами. Бийо-Варенн приветствовал вошедших движением руки, Барер улыбнулся. Карно поднял голову и опять погрузился в бумаги. Сен-Жюст сел рядом с ним.
— Все сорвалось потому, — проворчал Карно, — что вы с Леба не соблюдали предложенный нами стратегический план.
— Все чуть не сорвалось потому, — в тон ему ответил Сен-Жюст, — что ты не прислал обещанных резервов.
— Резервов? — пожал плечами Карно. — Но ведь войск в Эльзасе более чем достаточно. Впрочем, мы отдали распоряжение…
— Но не проследили за исполнением? — будто удивился Сен-Жюст.
— Довольно, довольно, граждане, мы говорим не о том, — вмешался Робеспьер.
— Мы говорим именно о том! — повысил голос Карно.
— Сен-Жюст и Леба — молодцы, — заюлил Барер. — Если бы все делали столько же, республика была бы уже спасена. Карно понимает это не хуже, чем я. Им надо дать резервы, оружие, деньги — и они с блеском завершат начатое.
— Барер прав, — подтвердил Бийо. — Сейчас не время раздувать склоку. Надо думать о главном. Надо с честью закончить дело.
— Так вот, — подхватил Сен-Жюст, — чтобы с честью закончить дело, нам нужны две вещи: резервы и отсутствие помех со стороны недобросовестных представителей.
— Но ведь мы отозвали всех, — удивился Барер.
— Отзовите Бодо и Лакоста.
— Это невозможно, — вмешался Приер. — Они ничем себя не скомпрометировали, а каждая армия должна иметь по крайней мере двух представителей: вы при Рейнской, они — при Мозельской.
— Вот что, граждане коллеги, — резко сказал Сен-Жюст. — Коль вы ждете чего-то от нас, так не мешайте. Не можете прислать резервов — обойдемся. Но отзовите интриганов, отзовите немедленно. Это они накрутили Гоша, доведя его до провала. Мы не желаем больше провалов. Если вы не измените положение дел, считаю свою миссию законченной.
— Ну ты не очень-то расходись, — всполошился Карно. — Это смахивает на дезертирство.
Сен-Жюст побледнел.
Видя, что может произойти непоправимое, снова вмешался Барер:
— Граждане, я нашел простой выход. Сен-Жюст, мы вдвое увеличим ваши полномочия. Я выпишу вам мандат как представителям при Рейнской и Мозельской армиях!
— Это правильно, — подтвердил Робеспьер, — тем более что Рейнская и Мозельская армии объединяются. Переходим к командованию.
— Гош должен быть наказан, — сурово изрек Карно.
— Согласен, — сказал Сен-Жюст. — Но не сейчас. Мы не можем нарушить статус командования, это обернулось бы катастрофой.
— Сен-Жюст прав, — подытожил Барер.
Несколько следующих дней Сен-Жюст почти не выходил из дому. Не появляясь более в Комитете, он заглянул раза два в Конвент, но не оставался там долго, хотя и понимал, что Собрание занимается сложными и важными проблемами: 15 фримера состоялся большой доклад Робеспьера о внешней политике, 16-го был принят декрет о свободе культов, 18-го начались прения по докладам Ромма и Букье о народном образовании…
Мыслями Сен-Жюст уже был в Эльзасе — он лежал в своем номере и думал, думал, думал…
Конечно, он оставил Нижний Рейн на верных людей: там были Гато и Тюилье, Дьеш, Моне и Нейман. Но там был и Евлогий Шнейдер… То, что Робеспьер рассказал о крайних, взволновало Сен-Жюста. Шнейдер и его люди внушали подозрения. Они, правда, знали дело, четко проводили реквизиции, умели распознать и обезвредить подозрительных. Но, взяв на откуп деревню, они слишком уж автономизировались… Эта «революционная армия», эти «гражданские комиссары» своими самозваными титулами узурпировали авторитет верховной власти… Все это было скверно, все требовало самого пристального и незамедлительного рассмотрения…
— Надо ехать, — сказал он Робеспьеру при встрече.
— Когда? — без тени удивления спросил Неподкупный.
— Намечаю на двадцатое. Вот получим деньги, выправим новый мандат и помчимся.
— Зайди к Леба, там есть новости.
— Какие?
— Придешь — узлаешь.
Новости действительно были.
Филипп сообщил ему, что Элиза и слышать не желает о новой разлуке: она-де так настрадалась, ожидая его, что это может сказаться на их будущем ребенке.
— Что же ты? — недоумевал Сен-Жюст. — Решаешь остаться? Будешь искать себе замену?
Филипп вспыхнул.
— И ты мог подумать такое? Все гораздо проще, мой друг. Элиза поедет с нами. Разумеется, возьмем и Анриетту. — Леба лукаво подмигнул.
Сен-Жюст опешил. Такое не могло прийти ему в голову. А затем… Затем он не стал скрывать свою радость.
— Но это же просто великолепно! — воскликнул он. — Мы их оставим в Саверие и будем наведываться по мере возможности. Это будет лучше и для них, и для нас.
— И для них, и для нас, — понимающе повторил Филипп.
— Тогда ускорим приготовления.
Утром 20 брюмера счастливые комиссары в сопровождении своих подруг тронулись в путь.
18
Элиза не рассчитала силы. Она тяжело переносила первые месяцы беременности, а тут дальняя дорога с обычными путевыми невзгодами; тряска вызывала дурноту, приходилось делать частые остановки и даже днем проводить по нескольку часов на постоялых дворах. Сен-Жюсту были приятны эти проволочки: они сближали его с Анриеттой; оставаясь наедине с девушкой, он был ласков с нею и почти не скрывал своих чувств, откладывая, впрочем, решительное объяснение до более благоприятного времени. В дороге, стараясь отвлечь Элизу от мрачных мыслей, Антуан, соперничая с Филиппом, шутил, рассказывал, читал вслух. У него всегда был при себе томик Мольера, его любимого поэта. И вот как-то, задумчиво полистав книгу, он вдруг отбросил ее, посмотрел на Анриетту и с чувством продекламировал:
Пусть речи о любви в моих устах невместны;
Но я ж, сударыня, не ангел бестелесный,
И если слов моих преступен страстный жар,
То это — действие прелестных ваших чар.
Щеки девушки порозовели. Элиза переглянулась с Филиппом.
Едва их дивный блеск узрел мой взор несчастный,
Моей владычицей вы стали полновластной;
Божественных очей неизреченный свет
Сломил мной на себя наложенный обет;
Он пересилил все — посты, молитвы, слезы —
И к вашим прелестям мои направил грезы.
Мой вздох, мой томный взгляд твердил уже не раз
То, что я голосом вам изъяснил сейчас.
— Вот так мадригал! — воскликнул Леба. — В наши дни сей высокий «штиль» безвозвратно утрачен. Что ты думаешь по этому поводу, сестренка? — лукаво обратился он к Анриетте.
— Я думаю, что это прекрасно, — тихо ответила девушка.
Элиза капризно надула губы. Сен-Жюст продолжал:
Ах, если в вас найдут хоть каплю состраданья
Смиренного раба душевные терзанья
И ваши милости его вознаградят,
Склонив к ничтожеству великодушный взгляд,
Я буду к вам всю жизнь, о нежное виденье,
Невыразимое питать благоговенье.
Со мною ваша честь вполне ограждена
И ни малейших жертв не требует она.
— Это — твое объяснение в любви? — язвительно спросила Элиза.
— Нет, — улыбнулся Сен-Жюст, — это всего лишь монолог Тартюфа.
— Тартюфа! — захохотал Леба. — Ну и остряк же ты, мой друг.
— Остроумие небольшое, — пожала плечами Элиза. — Нашел, чьими словами изъясняться — святоши и лицемера!
— Это произошло случайно, милая Бабетта, — опустил глаза Сен-Жюст. — Я готов декламировать, что ты пожелаешь.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что помнишь всего Мольера?
— Всего Мольера не помню, но кое-что знаю.
— Он скромничает, — вмешался Филипп. — Он знает наизусть всего Мольера, да и одного ли Мольера? У Флореля феноменальная память.
— Сейчас проверим. — Взяв книгу, Элиза нашла страницу. — А ну, феномен, давай-ка монолог Альцеста из «Мизантропа».
Сен-Жюст повиновался. Потом по просьбе Анриетты прочитал несколько мест из «Амфитриона» и «Принцессы Элидской». Женщины восхищались его памятью. В глазах Анриетты сверкала гордость.
— А все-таки, — заметил Леба, — Мольер угождал королю.
— Он был гением, — отрезал Сен-Жюст. — Что же до отношений с королем — время было такое… Но как раз в «Мизантропе» он дал образ героя и борца.
— Напомни-ка последние слова Альцеста, — попросил Филипп.
— Изволь:
Пойду себе искать на свете уголок,
Где честный человек свободно жить бы мог.
— Вот видишь, — обрадовался Филипп, — твой «борец» бежит, вместо того чтобы бороться… Да и потом не поймешь, кто же подлинный герой «Мизантропа», честный Альцест или ловкий Филинт… Недаром Жан-Жак обрушился на Мольера и обвинил его, что единственного честного человека в своем театре он отдал на осмеяние великосветским негодяям… Именно поэтому Фабр д’Эглантин и написал своего «Филинта», где превратил Альцеста в революционера…
— Твой Фабр — бездарь и мерзавец, — прервал друга Сен-Жюст.
— Мерзавец — не спорю, но бездарь — это уж ты прости…
— Бездарь, бездарь, бездарь, — твердил Сен-Жюст. Затем, подумав, добавил: — Зря Максимильен допустил его к расследованию дела Индийской компании.
— Безусловно, зря, — подхватил Леба. — Знаешь, мне кажется…
И разговор друзей, направившись по новому руслу, ушел далеко от Мольера. Женщины какое-то время продолжали их слушать, но потом, понимая все меньше, начали погружаться в дремоту…
…До Саверна добрались благополучно. Оставив своих спутниц в комендатуре и взяв с властей обещание найти им постоянное жилище, комиссары помчались в Страсбург. А потом события их так закрутили, что в Саверн они могли заглядывать редко и ненадолго. Бедная Элиза стала даже раскаиваться в своей затее и жалеть о покинутом Париже и отчем доме. Жалела ли о том же Анриетта? Во всяком случае, подруге она не открывалась.
В Страсбург прибыли вечером 22 фримера. Их не ждали. На главной квартире произошел переполох. Вилье принес толстую пачку накопившихся бумаг; здесь были счета, запросы, донесения, жалобы.
— Вот и положись на подобных идиотов, — проворчал Сен-Жюст. — Не смогли справиться с простейшими повседневными делами…
Подумав, он передал пачку Филиппу.
— Займись-ка этим, я же попытаюсь разыскать Тюилье или Дьеша.
— Но ведь за ними можно послать.
— Не желаю продолжения этой шумихи. Уж лучше я сам.
Тюилье оказался у себя: он собирался ложиться спать.
— Слава богу, вернулись, — радостно лепетал он, обнимая Сен-Жюста. — Мы с Гато уж хотели посылать запрос в Комитет.
— А что случилось?
— Да так, ничего особенного, но все же… Бодо и Лакост спелись с «Пропагандой». Идут аресты, тюрьмы переполнены. В провинции орудует Шнейдер…
Сен-Жюст был неприятно поражен этими словами. Вопреки своей обычной предусмотрительности он, видимо, переоценил «Пропаганду»…
…Еще 18 брюмера, задумав чистку Народного общества, комиссары обратились к якобинцам соседних департаментов, прося прислать семь проверенных патриотов. Патриоты стали прибывать целыми группами, и вместо семи их вскоре оказалось двадцать шесть. Назвав себя «Революционной пропагандой», они придумали особый костюм и поселились в Национальном коллеже. Муниципалитет Страсбурга отпустил им 40 тысяч ливров, и Дьеш выделил верхового для связи и двенадцать человек охраны. Из числа пропагандистов вскоре выдвинулись ярый безбожник Делатр и сторонник крайнего террора Моро, изменивший свое имя на Марат. Когда перед поездкой в Париж комиссары на несколько часов заглянули в Страсбург, в душе Сен-Жюста шевельнулись первые сомнения в правильности своей идеи: эти лохматые парни в красных колпаках и длинных балахонах, перехваченных трехцветными кушаками, за которыми в изобилии торчали кинжалы и пистолеты, не внушали особенного доверия…
…Теперь, слушая рассказ Тюилье, он убедился, что предчувствия его не обманули: пропагандисты натворили дел. Правда, миссию свою они выполнили: проведя чистку Народного общества и устранив умеренных, добились, чтобы французский язык стал официальным языком заседаний.
Но политический максимализм «Пропаганды» был очевиден. Недаром Бодо в восторге от ее деятельности выпустил прокламацию, утверждая, будто «народный дух получает теперь ежедневно то, что ведет к цели и свету: поучения с одной стороны, гильотину — с другой».
На улице стало совсем темно: освещение во фримере не баловало жителей Страсбурга. Но вот наконец и площадь Нью-Блё. Здесь, в особняке эмигранта Лесажа, ныне квартировали Дьеш и его штаб. У входных дверей горел одинокий фонарь. По мрачному коридору Сен-Жюст и Тюилье прошли в полутемный зал, украшенный слепками с античных статуй, оставшимися от прежнего владельца. Около этих статуй, под венецианскими зеркалами, прямо на грязном полу сидели и лежали какие-то оборванные люди, а среди них прохаживались жандармы.
— Вот, полюбуйся, — сказал Тюилье, — это арестованные нынешним днем — те, кто не поместился в набитые до отказа тюрьмы.
Внимание Сен-Жюста привлек мальчик, прислонившийся к стене и, видимо, стоя дремавший. Когда комиссар и его спутник подошли ближе, мальчик удивленно раскрыл глаза.
— А это что такое? — гневно спросил Сен-Жюст, обращаясь к Тюилье.
Тот лишь пожал плечами. Сен-Жюст взял мальчика за плечи и вывел на освещенное место.
— Кто ты? Как твое имя?
— Меня зовут Шарль, гражданин комиссар.
— Откуда ты знаешь, что я комиссар?
— Это видно по тому, как вы держитесь, гражданин.
«Он наблюдателен», — подумал Сен-Жюст, продолжая внимательно рассматривать мальчика.
— А сколько тебе лет, Шарль?
— Скоро исполнится двенадцать, гражданин комиссар.
— Боже мой! Они скоро начнут арестовывать грудных детей! А ну-ка, Пьер, разыщи Дьеша и приведи сюда немедленно.
Ребенок смотрел прямо в глаза Сен-Жюсту.
— Кто же задержал тебя? — спросил тот.
— Люди в длинных халатах, гражданин.
— А по какой причине? Твои родители — эмигранты?
— Нет, гражданин, мои родители честные патриоты. Отец — председатель трибунала, а дядя — командующий батальоном.
Подбежал Дьеш. Лицо его было помято после сна.
— С приездом, гражданин комиссар, — пробормотал он.
— За что арестован этот ребенок? — резко спросил Сен-Жюст.
— Он арестован не по моему приказу… Это все «Пропаганда»…
— Которой ты покровительствуешь?
— Уже нет, гражданин комиссар… Они арестовали его, поскольку он жил рядом с подозрительными. Он приехал из Франш-Конте…
— А ты, генерал, приехал из Руерга, не так ли? Значит, тебя тоже нужно арестовать? — И, не обращая больше внимания на трепещущего коменданта, Сен-Жюст снова обратился к мальчику: — Ты свободен, Шарль. Возвращайся в свою гостиницу, и поскорей.
Когда мальчик был уже у двери, Сен-Жюст вдруг окликнул его:
— А для чего ты прибыл сюда и чем здесь занимаешься?
— Я изучаю греческий язык, — с готовностью ответил Шарль.
— Да кто же в этом захолустье может преподавать греческий?
— Евлогий Шнейдер, гражданин комиссар.
— Снова Шнейдер, — пробурчал себе под пос Сен-Жюст, а затем сказал громко: — Да разве этот капуцин знает греческий?
— Он один из лучших переводчиков Анакреона, гражданин.
— Шнейдер — анакреонист? Поразительно!.. Ну иди же, изучай Анакреона, но если я узнаю, что ты позаимствовал у своего учителя и нечто другое, тебе несдобровать!..
Мальчик, конечно, не понял смысла последних слов. Довольный, он ушел. Он благополучно пережил эпоху террора, а впоследствии стал известным писателем Шарлем Нодье. И на всю жизнь сохранил память о том, кого враги назовут «архангелом смерти».
На следующий день вернулся генеральный администратор по снабжению Гато. Он сумел добиться поставок, вполне удовлетворявших нужды армии. Соседние департаменты регулярно давали необходимое количество зерна, фуража, мяса.
— Сегодня, — сообщал Гато, — реквизиции обеспечивают двадцать быков в неделю, что составляет сотню в месяц, — такого еще не бывало ни в Рейнской, ни в Мозельской армиях. Но…
— Без «но» мы никак не можем, — проворчал Сен-Жюст.
— Но многое осложняет группа Шнейдера, именующая себя ныне «Революционной армией департаментов Рейна и Мозеля»…
— В этом названии их ахиллесова пята, — тихо заметил Сен-Жюст, — поскольку закон четырнадцатого фримера ликвидирует революционные армии вне Парижа. Но продолжай, и, пожалуйста, подробнее.
Гато продолжал. Главной силой Шнейдера, присвоившего себе звание «гражданского комиссара при революционной армии», была разветвленная сеть агентов, «комиссаров», которые назначали по собственному усмотрению мировых судей и администраторов во многие места Нижнего Рейна, от Агно до Бара, причем эти ставленники зачастую соперничали с властями, утвержденными Сен-Жюстом и Леба.
Сен-Жюст задумался. Потом спросил:
— Скажи-ка нам по совести, Гато, скажи и ты, Тюилье: враждебна ли революции и республике деятельность всех этих людей?
— Вопрос не простой, — ответил Гато, переглянувшись с коллегой, — казалось бы, они делают то же, что и мы: проводят максимум, укрепляют курс ассигната и осуществляют реквизиции. Но…
— Опять «но». Объясни же, в чем дело?
— А в том, — вмешался Тюилье, — что эти самозванцы попирают закон и порядок; подрывают доверие к республиканским властям; в том, наконец, что они иностранцы!
«Иностранцы, — подумал Сен-Жюст. — А не перекликается ли это с тем, о чем мы с Робеспьером толковали в Париже?»
— Конечно, — с жаром подхватил Гато. — Сам Шнейдер — австрийский монах, ученик иезуитов, иллюминат.
[27] Вся его свита — австрийские и прусские выходцы. И заметь: они спелись с «Пропагандой», хотя та призвала бороться с иноземцами!
— Все это мы учтем, — сказал Сен-Жюст. — Но есть ли факты, порочащие Шнейдера и его «комиссаров»?
Факты Гато привел. Он показал, что шнейдерианцы не заботились о законных формах. Судили люди, не имеющие должности судьи, взимали штрафы с кого придется и не отчитывались перед вышестоящими властями. Так, подручный Шнейдера Неслин, не будучи судьей, засудил в Шлештадте на смерть человека и, наложив штраф в 3 тысячи ливров, сдал в казну 2 тысячи. Другой «комиссар», Велькер, нагрянул в Мольсем с военным отрядом и, наложив на город штраф в 1650 ливров, не сдал в казну ни су. Это лишь два примера, взятые наугад, — закончил Гато. — А в общем, они натворили много, и особенности в отношении женского пола. Вот папка, где все изложено с указанием мест и имен.
— Прекрасно, — сказал Сен-Жюст. — Давайте вашу папку и отправляйтесь по своим делам, мы же изучим документы и примем решение.
Отдав Филиппу часть бумаг, он погрузился в остальные. Картина вырисовывалась поразительная. Шнейдер разъезжал по Эльзасу в сопровождении свиты и гильотины, каждый выезд его обходился до 8 тысяч ливров. Он заранее извещал о своем прибытии, чтобы на месте успели подготовить пышный прием. Все завершалось оргиями; кровь лилась потоками, родители трепетали за дочерей, мужья — за жен…
Сен-Жюст отодвинул бумаги и искоса взглянул на Леба. Конечно, Гато постарался, он хорошо подобрал документы. Но с другой стороны, нельзя забывать, что идет борьба со смертельным врагом. Ведь его, Сен-Жюста, многие обвиняют в том же, что и Шнейдера: в самоуправстве, жестокости, ограблении местных жителей. Шнейдер штрафовал за отсутствие национальной кокарды, а Сен-Жюст — за подражание немецким модам; агенты Сен-Жюста обременяли народ реквизициями не меньше, чем агенты Шнейдера; по приговорам Шнейдера в брюмере был казнен 51 человек, а по решениям народных представителей — в два раза больше. Спрашивается, чем же он, Сен-Жюст, не пара Шнейдеру? Есть ли вообще разница в их действиях? Есть, несомненно. И дело здесь не в единичных эксцессах и не в частных обвинениях. Главное в том, что он и Леба
представляют Революционное правительство, а Шнейдер
дискредитирует его. Проникая во все поры управления и подменяя собой власть, установленную Конвентом и Комитетом общественного спасения, шнейдерианцы в руках Бодо и Лакоста могут стать силой, способной свести на нет всю титаническую работу, проделанную в Эльзасе Сен-Жюстом и Леба. А если так, значит, нечего колебаться. Надо наносить удар, и чем скорее, тем лучше.
Едва комиссары закончили просмотр бумаг Гато, как появился сам Гато вместе с верным Тюилье, оба в приподнятом настроении.
— Простите, если помешали, — с порога крикнул Тюилье, — но мы не можем не усладить вас картиной, прекрасно дополняющей то, что вы сейчас прочли. Поспешите, и вы увидите нечто занимательное!..
Заинтригованные комиссары согласились, и вся компания вышла на рю-де-Во. Толпа собралась несметная; только середина улицы оставалась свободной для ожидаемого кортежа. Наконец показался и кортеж. Впереди скакал вестовой, за ним следовал духовой оркестр, исполнявший что-то бравурное. Далее шел отряд жандармов, окружавший походную гильотину, влекомую четырьмя белыми конями; на помосте гильотины подбоченясь стоял палач. Затем появилась большая нарядная карета, запряженная шестеркой лошадей. По бокам и сзади кареты гарцевали гусары, на киверах и ташках которых белели изображения черепа с перекрещенными костями.
— Совсем как у пиратов! — обронил кто-то в толпе.
— Они и есть пираты, только сухопутные, — добавил другой.
Сквозь стекло кареты различался профиль человека, остриженного под гребенку, с мертвенным цветом лица. Рядом сидела женщина.
— Распутный капуцин справляет новую свадьбу, — объясняли в толпе, — благо невесту силой отобрали у родителей…
Карета двигалась шагом, но вдруг ее дернуло. Из-под колес полетели комья грязи. Один из них угодил прямо на камзол Сен-Жюста.
— Шнейдер приветствует тебя, — засмеялся Тюилье.
— Сим позорным балаганом он ускорил развязку и сам подписал свой приговор, — спокойно сказал Сен-Жюст, счищая грязь с платья.
На следующий день, 24 фримера, жители Страсбурга наслаждались новым зрелищем, впрочем сильно отличавшимся от виденного накануне. Правда, здесь были и гильотина, и палач, и сам Шнейдер. Но гильотина не катилась, а прочно стояла на площади Мезон-Руж, палач же и Шнейдер находились на ее помосте. Руки Шнейдера были связаны за спиной, а конец веревки держал палач. Этот страшный капуцин стоял у самого края помоста, и на его мертвенно-сером лице, покрытом красными пятнами, было написано безграничное удивление, смешанное с гневом и тоской. И только теперь все увидели, что он очень малого роста, что у него белесые глаза и рыжие брови и что он вовсе не страшен, а только смешон и жалок. Так простоял он на эшафоте с десяти утра до двух дня, после чего по приказу Сен-Жюста был отправлен в Париж, в ведение Комитета общей безопасности.
Там о нем, казалось, забыли. Но однажды Робеспьер спросил:
— Почему страсбургский священник все еще жив?
Тогда-то Шнейдеру все же пришлось предстать перед Революционным трибуналом, а затем и снова подняться на эшафот, но на этот раз — чтобы уже не сойти с него…
Впрочем, произошло это через четыре месяца после описанного.
Падение Шнейдера предварило ликвидацию всех его агентов и единомышленников. Одного за другим их снимали с занимаемых должностей, арестовывали и размещали по тюрьмам, чтобы позже перевести в Париж, в ведение Комитета общей безопасности и Революционного трибунала.
Бодо и Лакост, сначала потрясенные случившимся, затем, как обычно, быстро перестроились и стали хватать приверженцев Шнейдера, своих недавних друзей, с еще большей рьяностью, чем делали это уполномоченные Леба и Сен-Жюста. Бодо не замедлил при этом поднести своим соперникам отравленную пилюлю: по его личному приказу был арестован Юнг, бывший сапожник, пользовавшийся доверием Сен-Жюста и любимый Филиппом.
— Мерзавцы, — прорычал Сен-Жюст, узнав об аресте, — они бьют по самому больному месту!
— Нужно спасти Юнга, — воскликнул Леба, — спасти во что бы то ни стало! Ведь это же подлинный санкюлот, чистый и преданный революции большой ребенок.
— Увы, — вздохнул Сен-Жюст, — этого сделать мы не сможем. Конечно, я никогда бы не арестовал Юнга, но коль скоро он уже арестован… Пойми, ведь этот «большой ребенок» действительно скомпрометирован близостью к Шнейдеру. Если теперь мы выступим в его защиту, мы сами себя накажем, мы дадим этим мерзавцам благодарный материал для обвинения нас в непоследовательности… И они ведь это прекрасно понимают, потому и действуют с такой дерзостью…
— Но ты ведь выручил мальчика Шарля!
— То был всего лишь мальчик Шарль, а здесь дело касается принципов… Кстати, — стремясь переменить тему разговора, подхватил Сен-Жюст, — очень хорошо, что ты мне напомнил о Шарле, а следовательно, и о «Пропаганде»: с ней нужно тоже кончать.
Через несколько дней после этого разговора «Революционная пропаганда» была ликвидирована, а пропагандисты отправлены по своим департаментам.
Бодо пришел в ярость.
— Как ни крути, — заметил он Лакосту, — а последнее слово все время остается за этим подлым Сен-Жюстом. Ну что ж, постараемся взять свое во время военных операций…
Но и во время военных операций последнее слово также осталось за Сен-Жюстом, хотя иной раз недруги его и считали себя почти победителями.
Военные действия возобновились 25 фримера, на следующий же день после ареста Шнейдера. Это не было случайностью. Именно к этому дню был полностью подготовлен тыл, пришли ожидаемые резервы, определилось возможное направление ударов обеих армий.
На этот раз Сен-Жюст и Леба не повторили прежней ошибки, стоившей кайзерслаутернского позора: они ни на минуту не выпускали из виду деятельность обоих командующих — Пишегрю и Гоша. Это облегчилось новым мандатом, который расширял их полномочия на обе армии. В Рейнской они пытались, и небезуспешно, вселить отвагу в душу колеблющегося Пишегрю. По воле Сен-Жюста Рейнская армия, внезапно начав наступление против основного ядра армии Вурмзера, прорвалась к Агно и Форт-Вобану. Между тем Сен-Жюст и Леба были уже в Биче, у Гоша. По их совету молодой генерал двинулся против левого фланга австрийцев; сражение на высотах Рейсхофена началось на заре 2 нивоза, продолжалось с переменным успехом несколько часов и закончилось полной победой Гоша. От Рейсхофена он устремился на Фрошвиллер и Верт. Противник потерял 15 орудий, 20 провиантских повозок и унес более пятисот раненых. Благодаря этой победе путь на Ландау был для Гоша открыт. «Мы славим армию и тебя, — писал ему Сен-Жюст. — Смелость, товарищ, фортуна — за республику!» Победа Гоша расчистила путь и для Пишегрю. Опасаясь окружения с тыла, Вурмзер без боя покинул линию Агно и отступил к Виссамбуру.
И вот тогда, накануне полной победы, Бодо и Лакост в последний раз попытались добиться первенства и насолить Леба и Сен-Жюсту.
Стравив Гоша с Пишегрю и доведя их соперничество до полного разрыва, 4 нивоза в Верте на свой страх и риск они провозгласили Гоша главнокомандующим и доверили ему руководство Рейнской армией «до тех пор, пока обстоятельства не позволят вернуться к прежней демаркации». Этим сбрасывались со счетов не только прямые распоряжения Леба и Сен-Жюста, но и воля Комитета общественного спасения, иначе говоря, правительства Франции.
Гош, для виду пококетничав, согласился взять то, что называл «непосильным бременем».
Пишегрю немедленно подал в отставку.
Но если Лакост и Бодо думали всем этим унизить и поставить ненавистного Сен-Жюста в безвыходное положение, они жестоко просчитались. Сен-Жюст давно уже и сам понимал, что только Гош может успешно завершить кампанию. Это не значит, что строптивому генералу было все забыто и прощено, — Сен-Жюст слишком хорошо помнил печальную историю Дюмурье, чтобы спускать генералу, заподозренному в цезаризме, — но полный расчет был отложен до более подходящего времени.
[28] «Ситуация весьма деликатная, — писали Сен-Жюст и Леба Комитету 5 нивоза, — мы должны быть предельно осторожными». На следующий день, уговорив Пишегрю взять обратно прошение об отставке и пообещав ему компенсацию,
[29] комиссары отправились в Ризельц, где их ждали Бодо и Лакост.
Во время этой встречи Сен-Жюст, понимавший, что сейчас нельзя раздувать разногласия, держался так, будто ничего не произошло. Он был спокоен, корректен, вежлив. Предложив, чтобы Гош оставался главнокомандующим до конца операций, он предъявил письмо Комитета, в котором Карно требовал от народных представителей полного единства в планах и действиях.
— Ну и хитер, бестия, — сказал Бодо своему коллеге, когда они остались одни. — Однако ничего не скажешь: в нем есть и обаяние, и искусство повелевать…
Победа была близка.
Успехи французского оружия у Рейсхофена, Фрошвиллера и Агно ошеломили врага. 6 нивоза Гош нанес австро-прусским силам новый сокрушительный удар на высотах Гейсберга, после чего объединенные Рейнская и Мозельская армии вступили в долину Лаутера. Сен-Жюст лично участвовал в военных действиях. Теперь этот строгий, недоступный комиссар смешался с солдатами и словно бы стал одним из них. Он говорил с бойцами на их языке, не краснел от соленых словечек и мчался туда, где было опаснее всего.
— Твой трехцветный султан, — сказал ему пожилой гренадер, — для нас указатель: мы устремляемся за ним и знаем, что идем к победе…
…7 нивоза австрийцы эвакуировали Виссамбур; 8-го, в три часа пополудни, французы вступили в Ландау.
В этот же день комиссары отправили в Конвент лаконичную депешу: «Слава сопутствует Французской республике».
Кампания в Эльзасе была окончена.
19
Опять французским став, Тулон
На пленную волну отныне не взирает.
С высот своей скалы, освобожденный, он
Вслед Альбиону угрожает.
Огни, которые зажгла врагов орда,
Обрушились на них самих, как сонмы фурий:
Морей тираны, их суда
Теперь преследуемы бурей…
Эту песнь в честь освобождения Тулона на слова Мари Жозефа Шенье распевал весь Париж, ликовавший 10 нивоза; именно в этот праздничный день Сен-Жюст и Леба возвратились в столицу.
Антуан тотчас отправился в Комитет общественного спасения и прямо поднялся на второй этаж, в кабинет Неподкупного.
— Из всех торжеств революции, — сказал Робеспьер, очутившись наедине с Антуаном, — этот праздник наиболее заслужен, ибо освобождение Тулона, благодаря моему брату и юному генералу Бонапарту, воистину спасло республику!
Заметив, что Сен-Жюст чувствует себя уязвленным, Робеспьер все понял и поспешил обнять друга.
— Я не слишком деликатен, не правда ли?.. Не обижайся, мой дорогой, ради бога. И вы с Филиппом, я тысячу раз говорил об этом, сделали очень много и выполнили свою миссию превосходно, — завтра Конвент декретирует от имени нации благодарность Рейнской и Мозельской армиям… Но Тулон, поверь, дело совсем иного рода; выслушай меня внимательно, и ты все поймешь.
Максимильен начал с того, о чем они совещались в прошлый приезд Сен-Жюста: с образования двух фракций в Конвенте.
15 фримера Камилл Демулен, с благословения своего ментора и вдохновителя Дантона, начал издавать газету «Старый кордельер». Первые два ее номера были заострены против соратников Эбера; журналист издевался над «Анахарсисом» — Клоотцем и «Анаксагором» — Шометтом, уверяя, что античные имена не помешали их владельцам «трудиться на благо контрреволюции». Но уже в третьем номере, вышедшем 25 фримера, Демулен нападал на Революционное правительство в целом. Делая тенденциозную подборку из «Анналов» Тацита, он весьма прозрачно намекал, что преступления римских императоров подобны перехлестам правительственных комитетов, специализирующихся на зряшных арестах, необоснованных обвинениях и обильных казнях. Неудивительно, что этот номер имел огромный успех у всех явных и тайных врагов правительства, оказавшись отравленным оружием с руках контрреволюционеров. При этом, подчеркнул Робеспьер, вылазка Демулена была лишь одной из составных частей комбинированного удара модерантистов: одновременно с ней член Конвента Филиппо, вернувшийся из поездки в Вандею, стал кричать о предательстве революционных генералов Ронсена и Россиньоля, а Фабр и Бурдон из Уазы начали подкапываться под Комитет общественного спасения, заявляя, что он устарел и нуждается в смене всех своих членов.
— Так что, — подвел итог Робеспьер, — не будь грандиозной победы под Тулоном, воодушевившей всю страну и придавшей бодрости робким и неустойчивым, неизвестно, чем кончился бы весь этот камуфлет, ибо правительство буквально шаталось и было на волосок от падения.
— И все же не понимаю, при чем здесь Тулон, — в раздумье заметил Сен-Жюст.
— Не понимаешь? Изволь, уточню. Модерантисты распустили слух, ходивший по всей стране, будто мы, то есть правительственные комитеты, спасая свою шкуру, решили пожертвовать частью Франции и отдать врагу всю территорию к югу от Дюрансы. И этому бреду, представь себе, многие верили! Так что, не будь тулонской победы, нам пришлось бы плохо. Надеюсь, теперь ты понял?
— Теперь понял. Но чем же кончилась эта история?
— Она далека от завершения. Модерантисты добились от Конвента ареста своих главных врагов — заместителя военного министра Венсана и генерала Революционной армии Ронсена.
— А как держался Дантон?
— Никак; временами казалось даже, что он тут ни при чем. Зато проявил себя «красавчик Эро»; мы ведь по твоему требованию отозвали его, и вот он вчера отчитывался перед Конвентом, Он восхвалял свою деятельность в Эльзасе, уверял, будто очистил множество народных обществ и арестовал тьму подозрительных; на упрек в дружбе со шпионами Проли и Перейрой клялся, что почти не знал их.
— Мерзкий лгун. Меня-то он, конечно, честил вовсю?
— Напротив, хвалился, что во всем подражает тебе. Руганью занялись другие, его «верные», выступившие затем. Малларме заявил, что вы порасстреляли преданных республике генералов, а Симон уверял, будто вы стеснили других народных уполномоченных.
— Последнее верно; что же Конвент?
— Конвент отнесся с недоверием ко всему этому, зная о вашей подлинной работе в Эльзасе; отчета Эро Конвент не утвердил.
— Хватило ума. А Комитет?
— Когда Эро попробовал заявиться в Комитет, мы единодушно сказали, что не станем совещаться в его присутствии. Он потребовал отставку, но отставки ему пока не дали.
— Кислое положение. Его следовало бы, конечно, арестовать.
— Пока это тоже невозможно: он ведь член правительства, а правительство сейчас компрометировать нельзя; к тому же нужен предлог, посторонний, но достаточно веский.
— Ну что ж, нам не к спеху, — спокойно сказал Сен-Жюст. — Подождем, и предлог найдется. Эро сам отыщет его. Но мы засиделись в твоем кабинете. Давай-ка спустимся вниз, в зал заседаний, и посмотрим, что там творится.
В зале заседаний правительственных комитетов народу было больше чем обычно. Все децимвиры, за исключением находившихся в миссиях, оказались на месте. Наряду с членами Комитета общественного спасения за разными столами примостились несколько их коллег из Комитета общей безопасности. Все слушали Колло.
Колло д’Эрбуа, человек высокого роста, смуглый, с черными как смоль волосами и пронзительным взглядом, говорил громко и горячо. В прошлом артист, он владел не только речью, но и мимикой. Когда Робеспьер и Сен-Жюст пошли в зал, он на секунду остановился, чуть кивнул им и продолжал в том же повышенном тоне:
— Не узнаю, совсем не узнаю сегодня общественного мнения. Где оно, прежнее единство клубов, народных обществ, Конвента? Верх берут какие-то подозрительные личности, дельцы и спекулянты, какие-то фабры, бурдоны и филиппо; они добиваются общественного кредита, шельмуют порядочных людей, по их наглым требованиям арестовывают признанных и заслуженных патриотов. Что сделали родине кроме добра Ронсен и Венсан? На каком основании комитеты допустили их арест?
— Вся беда в том, — уточнил Робеспьер, — что в данном случае Конвент даже не поставил комитеты в известность.
— Тем хуже, — продолжал Колло. — У меня создалось впечатление, что, явись я в Париж несколькими днями позже, меня бы самого привлекли декретом к суду!
— Может статься, — тихо сказал Робеспьер.
— А это правда, что вы с Фуше расстреливали в Лионе людей картечью? — невинно спросил у Колло Сен-Жюст.
Бывший актер побагровел.
— Мерзавцы уже обвиняют нас… Да, Сен-Жюст, картечью, поскольку гильотина не поспевала… Мы уничтожали контрреволюционеров всеми способами и средствами и будем так делать впредь… Я недаром привез вам голову мученика Шалье — его мертвые губы вопиют о мщении!..
Сен-Жюст сел за свой стол. Робеспьер занял место рядом. К ним подошел член Комитета общей безопасности Амар, которому было поручено следствие по делу финансового мошенничества с Ост-Индской компанией.
— Так вот, дорогой коллега, — сказал Амар, обращаясь к Робеспьеру, — Фабра придется устранить от участия в расследовании.
Сен-Жюст насторожился.
— Черновик декрета о ликвидации компании, конфискованный нами у заключенного Делоне, содержит карандашные исправления. Все эти исправления сделаны в выгодном для мошенников смысле. Мы сравнивали почерк и пришли к убеждению, что карандашные поправки принадлежат Фабру д’Эглантину.
— Интуиция, кажется, и на этот раз меня не подвела? — спросил друга Сен-Жюст, как только Амар отошел.
— Похоже, что не подвела, — ответил Робеспьер.
Первые дни Сен-Жюст исправно посещал Национальный Конвент. 12 нивоза, как и обещал Робеспьер, депутаты вынесли благодарность от имени нации солдатам, офицерам, генералам и народным представителям Рейнской и Мозельской армий. Однако все это было сделано словно бы наспех. А потом началось…
Да, Колло был прав. Давно уже Антуан не видел столь смутного состояния Конвента, этого сердца революции, которое вдруг потеряло свой строгий и четкий ритм. Конвент превратился в поле боя, которым овладели модерантисты. Друзья Дантона дружно атаковали газету Эбера и вновь напали на Комитет общественного спасения. Дантонисты призывали к реорганизации министерств, и их предложение в принципе было принято. Эта же группа вдвое усилила атаку против военного министерства и главного Комитета; Филиппо даже потребовал передачи руководства военными операциями в Вандее в руки Комитета общей безопасности.
Именно туда-то и отправился Сен-Жюст, не дожидаясь дальнейших событий. Некая мысль овладела им.
В Комитете он запросил несколько досье на разных лиц и папку с делом Ост-Индской компании.
Следующие два дня он также проработал в Комитете безопасности. А потом, уставший до изнеможения, вернулся к себе в номер и, свалившись на кушетку, предался размышлениям и просмотру прессы.
Размышления были не из веселых. Он вспоминал недавнее прошлое. Там, на границе, люди жили тяжелой, но полноценной жизнью. Там боролись за целостность республики, за счастье миллионов граждан новой Франции. А здесь… Стыдно сказать, чем занимались здесь. Пустая болтовня с утра до ночи — за это ли солдаты отдают жизнь?..
Просмотр газет не улучшил его настроения.
Газета «Отец Дюшен» Эбера была ему знакома: она широко распространялась в армии и читалась солдатами, тому содействовал как простонародный язык ее, так и содержание статей. Впрочем, Сен-Жюсту были одинаково антипатичны и газета, и ее издатель. Антуан слишком хорошо помнил о тех прыжках, которые совершал Эбер справа налево, о неустойчивости его политических и моральных принципов, о презрении, с которым циник журналист относился к «этим кретинам», как он величал собственных сторонников. Не нравилось Сен-Жюсту и то, что в последнее время Эбер пытался разрешить все экономические и социальные затруднения с помощью одной лишь «национальной бритвы» (она же «святая гильотина»)…
Отбросив номера «Отца Дюшена», Антуан перешел к «Старому кордельеру» Камилла Демулена и погрузился в одиозный третий номер.
Именно в этот момент в дверях появился Неподкупный.
Он пристально взглянул на Сен-Жюста и уселся в кресло.
— Я пришел за тобой, чтобы вытащить тебя к Якобинцам. Сегодняшний вечер обещает много интересного.
— Ты же знаешь, что я не хожу в Клуб.
— Знаю, но сегодня пойдешь. А для затравки прочти вот это.
Робеспьер достал из кармана смятую тетрадку газеты «Старый кордельер».
— Это последний, пятый номер. Он вышел сегодня, 16 нивоза.
Сен-Жюст взял газету.
В этом номере Камилл сосредоточил огонь своей убийственной критики на конкуренте — Эбере. Он обвинял его в примитивном воровстве, взяточничестве и в квалифицированном обкрадывании государства. По его словам выходило, что военный министр Бушотт отпускал Эберу огромные суммы якобы для распространения в армии его газеты. Кроме того, Демулен не преминул упрекнуть «бедняка» Эбера в дружбе с голландским банкиром Коком и в весьма широком образе жизни за счет голодающего народа, интересы которого «Отец Дюшен» должен защищать…
Возвращая газету, Сен-Жюст сказал:
— Мне все ясно, и в Клуб я не пойду.
— Не пойдешь?
— Нет.
Робеспьер пожал плечами.
— Тогда прощай.
Сен-Жюст подошел к другу и крепко пожал ему руку.
— Не сердись, Максимильен. Я сейчас кое-что обдумываю. И обдумываю очень серьезно. В ближайшие дни я не пойду ни в Клуб, ни в Конвент, ни в Комитет. А затем, когда все уясню для себя, поделюсь и с тобой. Не сердишься? Ну и ладно. Уверяю тебя, это необходимо.
Он и правда не пошел никуда в ближайшие два дня.
Только поздно вечером 18 нивоза, рассчитывая, что Максимильен вернулся из Клуба, он направился к Дюпле. Но ему пришлось коротать время с хозяином дома: Неподкупный вернулся лишь за полночь.
И вот они снова в каморке на втором этаже, которая так знакома Сен-Жюсту и в которой он не был почти полтора месяца. И впереди еще одна бессонная ночь, подобная многим ночам, проведенным им здесь…
…Они долго молчали. Сен-Жюст уловил плохое настроение друга и счел должным первым нарушить молчание:
— Так расскажи, пожалуйста, что произошло в Клубе.
И Робеспьер рассказал о том, как развивалась склока между Демуленом и Эбером, и о том, как было бы трудно ему, Робеспьеру, если бы не помощь брата Огюстена, только что вернувшегося с юга, да еще Колло д’Эрбуа, желающего примирить враждующие стороны. Впрочем, примирить их не удалось. И когда он, Робеспьер, попытался еще раз выручить Демулена, тот отверг протянутую руку…
— Все разыгрывается как по нотам, — сказал Сен-Жюст. — Посуди сам. Конвент был един; потом обнаружился раскол: появились модерантисты и ультрареволюционеры. Ультра начали наступать — дехристианизация, политические крайности… Мы стали искать опору справа, в модерантистах; те помогли, но тут же заявили о своем главенстве, насилуя Конвент и Комитет: реорганизация министерств, ослабление террора… Мы неизбежно будем искать опору слева; не надо быть пророком, чтобы предсказать: начнется новый натиск ультра, более сильный, чем прежде, причем эбертисты тут же заявят о своем главенстве. Так позиция «над фракциями» в конечном итоге приведет лишь к нашему ослаблению, а затем и капитуляции: постоянная смена правого и левого давления расшатывает Конвент и Комитет, пока не расшатает их до полной потери власти…
Робеспьер с удовлетворением смотрел на Антуана. Тот продолжал:
— А между тем борются ли всерьез между собой правые и левые? И не преследуют ли они одну цель; уничтожить ныне существующее правительство? Пойми, нет ни правых, ни левых, есть только мы и наши враги, в какие бы одежды они ни рядились. И поскольку ты, я, Леба, твой брат, Буонарроти, Давид и еще небольшая группа патриотов в правительстве представляем народ, во имя которого боремся без страха и упрека и ради которого отдадим свою жизнь, все противостоящие нам, как бы они ни назывались — жирондисты или «бешеные», модерантисты или ультра, снисходительные или крайние, дантонисты или эбертисты, — все они враги народа, и это единственное название, единственная кличка, которой они заслуживают…
— Какая убийственная логика… — прошептал Робеспьер.
Сен-Жюст будто не слышал этих слов. Он говорил все тем же спокойным, размеренным тоном:
— Остается определить их природу; этот диагноз подскажет и меры предосторожности, и степень наказания. Вспомни: во время нашей беседы во фримере мы удивлялись, что заставило Фабра сделать донос. Теперь открытый Амаром черновик мошеннического декрета показывает: Фабр спасал свою шкуру, и, вероятно, спас бы ее, если бы черновик не был обнаружен. И все же вопрос: почему Фабр валил все на иностранцев и на близких ему лиц? Вот над чем следовало задуматься. И я задумался. И хочется верить — понял суть дела.
Сен-Жюст на мгновение остановился и прищурился.
— Есть закономерность: мы не верим тому, что противоречит здравому смыслу, но всегда прислушиваемся к правдоподобному. Именно из этого исходят клеветники, губящие чужую репутацию. Сообщив вначале нечто верное и общеизвестное, они приплетают к нему выдуманное, порочащее, плод собственной фантазии; но получившаяся смесь, поскольку часть ее — истина, вся обретает видимость истины! Нечто подобное сделал и Фабр. Он прекрасно знал, что мы располагаем данными об иностранном шпионаже; вспомним хотя бы портфель английского резидента, найденный прошлым летом, — ведь Фабр был одним из тех, кто изучал его содержимое. Вот он и «выдал» иностранный заговор! Сама постановка вопроса была точной: она вызвала в нас внимательных слушателей. Но кого же «выдал» Фабр? Да либо тех, о ком мы и так все знали, либо второстепенных агентов, не представлявших большого интереса. Он выдал Эро, который уже успел провалиться, он выдал группу Проли, которая и без того была арестована, он выдал Шабо и Базира, которые были скомпрометированы, да к тому же они лишь пешки. Но всем этим он обезопасил себя, Дантона и снял подозрение с главного лица, от которого шли все эти нити, вызывавшие ажиотаж, голод, диверсии, пожары в Дуэ и Валансьене, в парусных мастерских Лориана и на патронных заводах Байонны…
— Но кого же ты считаешь «главным лицом»?
— А ты не догадываешься? Это — лицо, о котором проговорился Шабо и о котором — заметь — ни слова не сказал Фабр, небезызвестное лицо, растворившееся в воздухе, как только его попытались арестовать, одним словом, пресловутый барон де Батц…
— Барон де Батц… Мифическая личность!
— Не столько мифическая, сколько неуловимая. Впрочем, виною здесь некий заслон, занятый обереганием Батца. Барон де Батц… Между прочим, я изучил его досье. Это сущий дьявол. Самозваный дворянин, владелец состояния, нажитого на скупке национальных имуществ и других аферах, он несколько раз эмигрировал, сражался в армии наших врагов, а затем вновь с невероятной дерзостью появлялся во Франции. Он пытался спасти Людовика Капета, организовывал заговоры вокруг Тампля, чтобы освободить бывшую королеву и выкрасть королевских детей. Его загородный дом в Шарроне стал местом сбора заговорщиков. Там часто обедал Дантон. Там плелась нить дела Индийской компании…
— А кто же управляет всем этим?
— Сие неизвестно. Держит Батца рука Питта или Кобурга, движут им из Лондона, Вены или Берлина — этого я пока не знаю. Важен сам факт, еще не привлекавший внимания Комитета общей безопасности.
— Недаром я всегда считал, что члены этого Комитета способны лишь на интриги… Но ты что-то сказал о «заслоне»…
— А, «заслон»… Это прежде всего дельцы и банкиры, под видом патриотов наводнившие Францию. Мы гостеприимно открыли двери всем преследуемым у себя на родине; мы сделали их французскими гражданами, дали им ответственные посты. К сожалению, лишь немногие оказались подобно Буонарроти достойными этого — большинство стали тайными врагами республики. Таковы, например, английский банкир Бойд, братья Фрей, имевшие австрийское подданство, таковы голландские банкиры Кок и Ван-ден-Ивер, прусский финансист Перрего, бельгийский банкир Проли, испанский банкир Гюзман. Обрати внимание: каждый из них находится в близких отношениях с кем-либо из членов Конвента или функционеров ратуши. Бойд всегда дружил с Делоне, Перрего — с Эро, Проли — с Демуленом, братья Фрей — с Шабо, Кок — с Эбером, Ван-ден-Ивер — с Клоотцем. А что касается наших «особо заслуженных», то кое-кто из них хороводил сразу со многими дельцами. Дантон обедал с Бойдом, пил с Перрего, развлекался с Гюзманом, не отказываясь при этом и от особых услуг Проли. Словом, тень иностранного заговора нависла над Конвентом и страной. Мы расправились с дворянством и духовенством, но лидеры прежних привилегированных сумели уйти в эмиграцию и действуют из-за рубежа. В то время как наши армии бьют врага на границах республики, иноземцы в союзе с аристократами пытаются взорвать нас изнутри. Этого нельзя допустить. Мы не можем более стоять «над фракциями». Мы должны их устранить. Или республика погибла.
Сен-Жюст умолк. Молчал в задумчивости и Робеспьер. Потом он поднялся и пожал руку Антуану.
— Блестяще, — тихо сказал Неподкупный. — Я внимательно слушал тебя, хотя мог бы сам рассказать тебе почти то же самое: прочитай мои последние речи, и ты убедишься, что все, о чем ты говорил, непрестанно волнует и меня. Но я рад, что независимо от меня ты пришел к тем же мыслям. Ты рассеял мои последние сомнения. Суть дела ясна: остается действовать.
В ночь на 24 нивоза поэт и драматург, элегантный Фабр д’Эглантин был арестован. Днем в Конвенте Жорж Дантон попробовал вступиться за своего друга: он предложил депутатам вызвать арестованного и допросить его в своей среде.
От имени Конвента Дантону ответил суровый Бийо-Варенн. Ответ был краток и ужасен:
— Горе тому, кто сидел рядом с Фабром и одурачен им!
Дантон не настаивал. Кампания была проиграна.
И все же… Все же они не были сброшены со счетов — одни и другие — ни сегодня, ни завтра, ни в нивозе, ни в плювиозе. Обстоятельства потребовали немедленной отправки Сен-Жюста на фронт. 3 плювиоза Комитет послал его и Леба в Северную армию сроком на 20 дней.
Но еще до этого в личной жизни Сен-Жюста произошли события, не прошедшие для него бесследно.
20
Его отношения с Анриеттой приобретали устойчивый, хотя и лишенный сентиментальности характер. Об их неначатом романе знали уже все. Элиза при случае поддразнивала влюбленных, а Робеспьер в деловом разговоре бросил раза два с характерным для него умением намеки, вогнавшие Антуана в краску.
Он понял: больше тянуть нельзя.
И вот в один из холодных, но ярких зимних дней на квартире Леба произошло объяснение.
Его пригласили на чашку кофе. Когда Анриетта начала прибирать посуду, Филипп поднялся.
— Ты уж извини, — с лукавой улыбкой сказал он Сен-Жюсту, — но Элиза просит проводить ее к матери. Дело недолгое. Подожди меня здесь, и, думаю, не позднее чем через полчаса я вернусь.
Сен-Жюст кивнул и невольно посмотрел на свою избранницу. Она спокойно вытирала чашки; лицо ее, обычно смуглое, в этот миг казалось матово-белым, взгляд оставался опущенным.
Едва захлопнулась дверь за супругами, он подошел к Анриетте. Она не спеша и не поднимая глаз продолжала свою работу.
— Анриетта, — начал он, — я давно хочу сказать тебе…
Она спокойно смотрела на него. По мере того как он говорил, лицо ее оживлялось, и всё же она казалась ему античной богиней, далекой от земных чувств. Он не помнил, что говорил ей. Речь его была выспренней и бессвязной. Она бросила полотенце и ждала.
— Глупый, — сказала она наконец, — ну поцелуй же меня.
Они поцеловались. Странно, но этот сладкий момент, давно и страстно ожидаемый, не вызвал у него никаких чувств. Те токи, которые он ощущал при первых встречах, теперь не появлялись. Казалось, все это происходило не с ним, он словно видел все со стороны. «Интересно, разыщут ли они сегодня досье Батца?» — подумал он вдруг в самый неподходящий момент.
Была ли Анриетта разочарована? По-видимому, она была не такой, чтобы показать свой восторг или разочарование. Она была сдержанной, внимательной и серьезной, сознавая, что произошло нечто важное, и не желая это важное разбить или упустить.
Они стояли у окна, и луч косо пронизывал комнату, и в солнечной дорожке искрились тысячи маленьких пылинок. «Никогда не подозревал, что в этой комнате так много пыли, — подумал Сен-Жюст. — Здесь плохо убирают… А интересно, чистоплотна ли она? Однажды мне показалось, что она прячет коричневые пятна на своем носовом платке. Неужели она тайком нюхает табак?..» А потом, по странной непоследовательности, он вдруг вспомнил афоризмы о женщинах — свои афоризмы, которые записывал в блокнот, всегда хранимый на груди.
«…Чтобы быть счастливым с женщиной, нужно сделать ее счастливой, не давая ей этого почувствовать…
Оставь ее абсолютно свободной… Если хочешь сделать женщину счастливой, предоставь ее самой себе…
Опасно быть слишком предупредительным с женщиной, еще опаснее слишком удовлетворять ее. Нужна индифферентность, чтобы ее воспламенить…»
…Они стояли у окна, и лучи солнца косо пронизывали комнату.
— Милая Анриетта, — сказал он, пытаясь придать голосу нежность, — ты разрешишь мне объявить о нашей помолвке?
— Да, конечно, — ответила она.
«Не так должно было произойти это, — думал он. — Нужна индифферентность… Но не слишком ли много ее? — И вдруг снова екнуло беспокойство: — Интересно, разыщут ли они сегодня досье Батца?..»
Он все рассказал у Дюпле. Их поздравили с шампанским. Элиза смахнула слезу, Филипп же хлопал в ладоши, как ребенок. Робеспьер обнял друга и отвел его в угол комнаты.
— Лучшего я не мог ожидать. Когда играем свадьбу?
— Зачем спешить? — неопределенно пожал плечами Сен-Жюст.
— В наше время спешить необходимо, а то будет поздно.
— Это правда. Долгая жизнь не входит в наши планы. Но уж хотя бы дождемся весны — вантоза или жерминаля…
Вантоза или жерминаля… Разве не знал он, что произойдет в вантозе и жерминале? Разве не сам, не своими руками готовил неизбежное, что не должно было оставить места для личных радостей?..
Впрочем, еще раньше вантоза и жерминаля случилось
это.
Это произошло в конце нивоза, вскоре после ареста Фабра. Он сидел у себя в номере и записывал случайные мысли. Короткий зимний день был на исходе. Внезапно он бросил перо. Какое-то неясное волнение охватило его. И тогда раздался стук в дверь. Стучали неназойливо, тихо. Он узнал этот стук. Он сразу понял, кто стоит по ту сторону двери. И прежде чем подняться, чтобы открыть, помедлил.
Значит, все-таки пришла. Он ждал ее, он ходил к отелю «Тюильри» и дежурил перед входом. Но это было давно. Полгода назад. А может, год. А может, сто лет. Но зачем же пришла она? И именно теперь. Нет, не год и не полгода назад, а именно теперь…
Стук повторился. Это был даже не стук; это было нечто, напоминающее легкое поскребывание, — так всегда стучала она. Вероятно, так скребется кошка, стремящаяся попасть домой. Говорят, кошки чувствуют, когда умер хозяин… Впрочем, нет, это говорят о собаках. У него никогда не было ни кошки, ни собаки, и он не мог понять Робеспьера с его Броуном…
Он еще помедлил. Но интуиция подсказала, что в третий раз она не постучит.
И тогда он встал, чтобы открыть.
…Она совсем не изменилась, и волосы ее были такими же золотыми и мягкими, как раньше. Нет, он не дотронулся до ее волос, но он знал, что они такие же мягкие, как раньше, там, в Блеранкуре… Они долго смотрели друг на друга, ничего не говоря; потом он взял ее за руки и повел в комнату, в свой гадкий, неуютный номер.
— Почему ты так долго не писала? — спросил он, и свой голос показался ему неестественным и чужим; и ему стало страшно, что ей он тоже покажется чужим и
неестественным.
Но она ничего не ответила; она улыбалась и не произносила ни слова.
— Любишь ли ты меня еще? — спросил он и удивился себе, зачем спросил это.
Но она опять не ответила. Она приникла к нему, и он почувствовал, что волосы ее действительно мягкие и пахнут так же, как тогда, там, в Блеранкуре.
«…Чтобы быть счастливым с женщиной, нужно сделать ее счастливой, не давая ей этого почувствовать…»
Он охватил ее рукой и осязал тепло ее тела, и голова его закружилась. Он ввел ее в свой гадкий, неуютный номер и остановился, держа ее за руку.
— Вот видишь, как у меня, — сказал он неизвестно зачем; потом добавил: — Я ведь ходил к твоему отелю, желая увидеть тебя.
Она кивнула и продолжала улыбаться.
— Чем же разомкну я уста твои? — сказал он, целуя ее и увлекая к кушетке.
Она доверчиво поддалась ему.
Он сел и посадил ее рядом.
Она припала к груди его, просунула руки под его рубашку и, обняв его, стала гладить нежно и страстно, как умела только она.
Он хотел все сделать красиво, как делал некогда с нею, но теперь он утратил это умение и стал действовать грубо и нетерпеливо. Но она, казалось, не замечала этого, она удвоила свои ласки, вынуждая его отвечать.
Он был уже в ином мире, далеком от всех его мыслей, дел и забот. Он плыл по широкой реке, нет, по необъятному морю, и могучий прилив увлекал его на самый гребень волны. Но отлив начался раньше, нежели волна прилива достигла вершины. Он действовал по инерции, но у же в ласках ее не ощущал блаженства, а лишь одну суетливость, и эта суетливость становилась ему неприятна, и он силился избежать ее…
«…Оставь ее абсолютно свободной… Если хочешь сделать женщину счастливой, предоставь ее самой себе…»
…Он предоставил ее самой себе, но отнюдь не был уверен, что сделал ее счастливой. Она ничего не понимала и смотрела на него молящим взглядом. Потом стала плакать.
Он уселся, поправил свой костюм и сидел молча. Потом сказал:
— Почему ты не написала мне, не предупредила письмом, что придешь?
— Теперь это уже не имеет значения, — сквозь слезы ответила она, и он впервые услышал ее голос.
Но он настаивал на ответе, и она сказала:
— Я не писала тебе, боясь, что ты уклонишься от встречи.
— Но я же ходил к отелю «Тюильри», и ты знала об этом.
Она ничего не ответила.
— Ты совсем не думаешь о будущем, — сказал он.
— У меня нет будущего, — ответила она.
«…Чтобы быть счастливым с женщиной, нужно сделать ее счастливой, не давая ей этого почувствовать…»
…Тонкий афоризм. Пожалуй, слишком тонкий, чтобы быть правдивым… Что дал он ей почувствовать? Ничего, кроме гадливости… А пытался ли он сделать ее счастливой? Да он меньше всего думал об этом!..
— Где ты была все это время? — спросил он, лишь бы что-то спросить.
— Жила у родственников в деревне, а потом в Париже.
— Ты оставила мужа?
— Да.
— Из-за чего?
— Из-за кого, хотел ты спросить? Да из-за тебя же, из-за тебя!
— Значит, ты любишь меня еще?
Она снова заплакала.
Он вспомнил, что не узнал о главном, и спросил:
— Твой муж арестован?
— Он недолго пробыл в заключении. Потом он уехал за границу.
— Уехал? Ты хочешь сказать — эмигрировал?
— Да.
— А отец твой?
— Тоже.
— Значит, ты дочь и жена эмигрантов?
— Не волнуйся за меня. Я уехала из Блеранкура задолго до того, как они эмигрировали, и мои документы в полном порядке.
— Но откуда у тебя документы?
— Благодаря добрым людям.
«Скверно, — подумал он, — очень скверно. Она дочь и жена эмигрантов и живет по фиктивным документам».
Но он не сказал ей этого. Он сказал ей совсем другое, и это было так неожиданно для него самого и так глупо, что он изумился.
— А у меня есть женщина, — сказал он.
Она ничего не ответила.
— Женщина и дети, — продолжал он с воодушевлением. — Можешь ли ты это понять?
Она молчала.
— Ты будешь нянчить моих детей?
— Нет, — сказала она.
— А ты не ревнуешь?
— Нет.
— Совсем?
Она не ответила.
— Ты все еще любишь меня?
— Да, я люблю тебя.
— Но нам надо расстаться. Преодолеем нашу слабость. Надо все забыть и больше не видеться. У меня есть женщина и дети, а ты была мне неверна.
Она молчала.
— Ты ведь была мне неверна? — спросил он.
— Да, — ответила она.
— Прекрасно, — сказал он. — Надо все забыть и разойтись.
Она встала и вытерла глаза.
— Впрочем, мы еще увидимся, — сказал он. — Нам надо о многом поговорить, а я ведь ничего не знаю о тебе. Ты придешь ко мне завтра.
Она ничего не ответила.
«…Опасно быть слишком предупредительным с женщиной, еще опаснее слишком удовлетворять ее».
…Кажется, он избежал этой опасности.
Провожая, он обнял ее. Она не сопротивлялась, но и не отвечала. Она была спокойна.
Он запер дверь и повернул ключ два раза.
Потом упал на кушетку.
В голове был сумбур, в чувствах тоже.
Но он с предельной ясностью понял одно: он не любил ее больше. Дьявольское наваждение окончилось, ушло вместе с ней, и это было хорошо. Это было единственной отрадой во всем пошлом и гадком сегодняшнем вечере. Нарыв лопнул, гной вытек, и больной спасен. Ее приход спас его. И от нее, и от Анриетты. И за это он должен быть ей благодарен.
Он вынул из нагрудного кармана свой маленький блокнот и в сумерках, с трудом разбирая слова, стал просматривать свои афоризмы.
Ага, нашел. Нашел страницу, на которой была одна только строчка:
Любовь — это поиск счастья.
Улыбнулся. Зачеркнул. Вместо этого написал:
Любовь, ты телесна, фривольно-легка,
От сердца великого так далека…
Удивительно, как он вспомнил это двустишие… Он написал его когда-то в дни юности, когда сочинял свою никем не признанную комедию «Арлекин-Диоген». Уже тогда он понял, что обладает великим сердцем, созданным не для любви к женщине, а для любви к родине… Понял? Нет, конечно же в те времена, шатаясь вместе с Демуленом по грязным притонам Пале-Рояля и заводя интрижки со случайными актрисами, он ничего подобного понять еще не мог — где ему было понять это в те времена! Но он почувствовал это помимо погрязшего в пороках сердца, помимо мозга, разгоряченного крепкими напитками, он почувствовал пророчески…
От сердца великого так далека…
Ну разве мог он теперь любить Терезу? Да и не только Терезу, а и кого бы то ни было, скажем эту самонадеянную восемнадцатилетнюю девочку, Анриетту…
Сердце его болезненно сжалось.
Он сразу постарел на несколько лет, он вдруг понял многое, о чем и не догадывался раньше. Он понял, между прочим, почему бедная Элеонора Дюпле никогда не дождется своего сказочного принца, почему его друг Максимильен Робеспьер никогда не станет ей ни мужем, ни любовником.
Нет, мы не созданы для обычных чувств. Мы обрекли себя на иную любовь, и эта любовь выжгла наши сердца и опустошила наши души, она отказала нам в самом обычном, чем наделен всякий; мы слишком любим человечество, чтобы любить человека, мы навсегда останемся одинокими в этом огромном мире. Мы сами обрекли себя на одиночество и борьбу, борьбу без перспектив. Ибо мы будем бороться до последнего врага или до последнего патрона; если не сможем одержать победу, то погибнем, и если одержим ее, но не закрепим, погибнем тоже…
В комнате стало совсем темно.
Постепенно все мысли ушли, точно влага в песок, и осталось одно оцепенение. Так он лежал бездумно и бесцельно, потеряв представление о времени, не имея ни желаний, ни боли, ни надежд.
И вдруг почувствовал страх.
Он вспомнил, что пригласил ее на завтра. И она придет! И даже не завтра, а сегодня, сейчас! Еще миг — и он услышит это противное поскребывание. И тогда он умрет.
Сен-Жюст вскочил. Он задыхался от ужаса.
Прочь отсюда! Он не может здесь оставаться дольше, ни единой минуты, ни единой секунды…
Набросив что-то, он устремился к двери, открыл ее и быстро пошел, почти побежал в темноту холодной январской ночи.
Было около двенадцати, когда он появился у Добиньи.
Старый приятель был несказанно удивлен.
— Вот так сюрприз, черт возьми! Откуда ты, старина, среди ночи? Стряслось что-нибудь?
— Ничего не стряслось, Вилен. У тебя можно переночевать?
— Переночевать у меня? Тебе? В моей жалкой конуре? Вот так штука… Может, сгорел твой отель?
— Отель на месте, Вилен. Пожалуйста, постели где-нибудь, а то я безумно хочу спать.
Хозяин квартиры понял, что расспросы бесполезны.
Вилен Добиньи был старинным приятелем Сен-Жюста. Когда-то он вместе с Демуленом участвовал в юношеских забавах Антуана. Потом, уже находясь в Конвенте и Комитете, Сен-Жюст тянул за уши Добиньи, помогал устроиться ему на хорошее место и отбивался от его врагов. И все же сердечной близости между ним и Виленом теперь не было. Быть может, именно потому, что в прошлом их сближало слишком многое?..
На следующее утро, едва открыв глаза, он спросил у Добиньи, готовившего кофе:
— Вилен, нет ли у тебя адреса дома, где можно было бы устроиться на длительный срок?
— Есть, конечно же есть адресочки. Сейчас ежедневно арестовывают у кого мужа, у кого брата, а то и целыми семействами — пустых квартир много.
— А можно не из таких?
Добиньи порылся в бумажнике и вынул крохотную записку.
— На ловца и зверь бежит. Вот, возьми. Улица Комартен, дом номер 3. Сдается комната. Хозяйка — очаровательная особа и к тому же художница.
— Вероятно, дорого?
— И это спрашивает всесильный децимвир! Стыдись, друг.
В тот же день Сен-Жюст перебрался на новую квартиру. Но этого показалось ему недостаточно. Она ведь могла узнать его новый адрес точно так же, как узнала старый!
Нет, нужны коренные меры.
Он отправился в Комитет общей безопасности.
В Комитете, как всегда, дежурил старый Вадье. С ним находился член Комитета Жаго. Ни Леба, ни Давида, к счастью, не было.
— А, — приветствовал Вадье Сен-Жюста, — опять явился подбирать матерьяльцы?
— Нет, Вадье, ты ошибся. На этот раз, напротив, я собираюсь вам их дать.
— Это занятно, — протянул Вадье.
— Запиши, гражданин. Поступили сведения о подозрительной женщине, приехавшей откуда-то из провинции.
— Кто такая? — схватил блокнот Жаго.
— Некая Тереза Торен.
— Чем подозрительна?
— Связана с эмигрантами. Ее муж и отец бежали к тиранам.
— Ого! Это серьезно.
— Живет по фиктивным бумагам.
— Это еще серьезнее. А где проживает опа теперь?
— В отеле «Тюильри», что против Конвента.
— Ишь ты, где укрылась! Спасибо, гражданин. Возьмем ее немедля.
Сен-Жюст помялся.
— Я полагаю, ее нет нужды арестовывать. Можно ограничиться высылкой из столицы.
Он ведь вовсе не желал зла Терезе; он только хотел обезопасить себя от встречи с нею…
Его желание исполнилось скорее, чем он думал.
Вечером Жаго поймал его в Комитете общественного спасения.
— Ты что же, коллега, смеяться над нами вздумал?
Сен-Жюст вопросительно посмотрел на него.
— Твоей красотки и след простыл. Сразу после разговора с тобой я принял меры. Днем Эрон с ребятами нагрянул в «Тюильри». И что же ты думаешь? Там таковой не оказалось. Она выбыла рано утром в неизвестном направлении.
«Слава богу, — вздохнул Сен-Жюст. — Она оказалась умнее, чем я думал, и жаждет новой встречи не более моего. Теперь совесть моя спокойна и честь спасена».
День спустя он уехал на фронт.
21
Антуан Сен-Жюст не возился со своими ранами, сколь бы глубоки они ни были. Дело у него всегда перевешивало, не оставляя места для мелких страстей, воспоминаний, сожалений.
Тем более что рядом был верный Филипп.
Правда, присутствие Филиппа и радовало, и смущало: слишком уж внимательно смотрел он в глаза, слишком откровенно и упорно ждал признаний. Сен-Жюст под конец даже разделил инспекцию между собой и другом: в то время как сам он направился в Гиз, Леба покатил в Авен, и далее, вплоть до встречи в Амьене 24 плювиоза, они действовали раздельно.
Впрочем, это произошло уже после Сен-Поля, когда Филипп уехал часа на два в Фревен, где жил его старый отец.
А в Сен-Поле, куда они прибыли 6 плювиоза, произошла неожиданная и неприятная задержка.
Смеркалось. Сен-Жюст, не собираясь задерживаться в городе на ночь, хотел было дать распоряжение вознице, когда экипаж вдруг замер, словно остановленный невидимой рукой.
На подножку вскочил офицер.
— Выходите!
— В чем дело? — осведомился Сен-Жюст.
— Это приказ властей. И побыстрее!
— Но мы уполномоченные правительства республики. Вот документы.
— Покажете там, где их спросят. Эй, ребята, помогите гражданам!..
Помогать, разумеется, не пришлось. Сен-Жюст и Леба спустились прямо в жидкую грязь дороги. Их окружили гвардейцы и куда-то повели. Сен-Жюст был сдержан и спокоен, но Филипп, хорошо знавший друга, видел, что тот задыхался от ярости.
…Маленькая комната освещалась сальной свечой. За столом сидел человек в заштопанном мундире и что-то писал.
— Кто вы? — спросил его Сен-Жюст.
— Здесь вопросы задаю я, — надменно ответил незнакомец.
Немного помолчав, он добавил более благодушно:
— Я начальник почты, за свой патриотизм избранный в местный Наблюдательный комитет. Вы заподозрены в шпионаже. Сам я, к сожалению, ни допросить, ни отправить вас в тюрьму не могу. Придется подождать уполномоченных, за которыми уже послали.
— Вы умеете читать? — саркастически спросил Сен-Жюст.
— Разумеется.
— Тогда посмотрите это, и если вы действительно патриот, то, думаю, разберетесь и примете верное решение.
Чиновник долго рассматривал бумаги и даже понюхал их. Потом, с сомнением покачав головой, вернул Сен-Жюсту.
— Это, быть может, фальшивки.
— Что нас погубит, так это косность и рутина, — сказал Сен-Жюст Леба. — Впрочем, даром такое им не пройдет…
…Конечно, не минуло и четверти часа, как все выяснилось. Растерянные члены Комитета униженно просили извинить их чрезмерный патриотизм. Но Сен-Жюст был неумолим. Он тут же составил приказ: двенадцать членов Наблюдательного комитета объявлялись низложенными, подлежали немедленному аресту и заключению в тюрьму в Бетюне. Исполнение приказа было возложено на офицера, задержавшего комиссаров; он был бледен как мел, без конца отдавал честь Сен-Жюсту и стремился проявить усердие сверх всякой меры…
Четверо суток спустя, находясь в Лилле и будучи в хорошем настроении, Сен-Жюст уступил просьбам Филиппа и отменил приказ: двенадцать слишком пылких патриотов, уже заключенных в тюрьму, помиловали, простили и восстановили в должности; один лишь незадачливый начальник почты получил строгое заключение сроком на месяц.
…Этот неприятный эпизод никак не отразился на их двадцатидневной миссии: используя свой эльзасский опыт, они действовали спокойно и твердо; в Мобеже, Лилле, Дуллане и Аррасе налаживали финансовую дисциплину, преследовали воров и ажиотеров, устанавливали порядок в армии. И если они, между прочим, постановили «арестовать всех бывших дворян Па-де-Кале, Нор, Соммы и Эны», то сделано это было с исключительной целью — помешать вражеской агитации и шпионажу в прифронтовой полосе. Одновременно Сен-Жюст и Леба освободили многих военных и штатских, несправедливо арестованных местными властями.
Двадцать дней промелькнули быстро; он и оглянуться не успел, как снова оказался в Париже, в квартире на улице Комартен.
Сен-Жюсту нравилась его новая квартира, нравилась молодая расторопная хозяйка, проявлявшая постоянную и ненавязчивую заботу о нем — впервые со времени проживания в столице он чувствовал себя устроенным по-домашнему. Погруженный в дела Конвента и Комитета, он, не желая преждевременной физической изношенности, умел урвать время и занимался гимнастикой, по утрам скакал на лошади, часто посещал китайские бани близ моста Турнель.
Весной 1794 года Сен-Жюст как-то особенно сблизился с Кутоном. Этому содействовал переезд Кутона в дом № 366 по улице Сент-Оноре, где он снял у столяра комнаты, прежде занимаемые Огюстеном и Шарлоттой; теперь, навещая Максимильена, Сен-Жюст каждый раз заходил и к Кутону. И однажды Кутон поведал ему то, чем не делился ни с кем, — историю своих страданий. Его болезнь, поразившая спинной мозг и развивавшаяся постепенно, началась давно, в дни юности. В 1787 году Жорж женился на Мари Брюнель, дочери небогатого чиновника, которая стала его добрым ангелом. В период Учредительного и Законодательного собраний он еще передвигался с помощью палки, потом — на костылях, а в Конвент его уже носили на руках. Теперь наконец отыскали это кресло на колесах, в котором Кутон перемещался самостоятельно — даже по улицам, — умело двигая верхними рычагами.
И что за человек был Жорж Кутон! Словно здоровый, ездил он по стране, спал на постоялых дворах, руководил освобождением Лиона, а теперь, в Комитете и Конвенте, один из ведущих политиков и ораторов!..
Собратья-депутаты оценили деятельность Сен-Жюста и показали, что признают его заслуги: 1 вантоза он был единодушно избран главой Великой Ассамблеи, стал председателем Конвента,
[30] он, один из семиста сорока девяти, начавших свой исторический путь 21 сентября 1792 года, когда, за исключением Демулена, его не знал никто. Сегодня его знает вся Франция. Сегодня, когда претворяется в жизнь все то, чему он положил начало.
Он во время своей первой поездки в Арденны на свой страх и риск предписал засеять брошенные земли эмигрантов; сегодня это стало обычным для всей страны.
Он основал в Эльзасе бесплатные школы для изучения французского языка; сегодня Конвент декретировал организацию подобных школ по всей Франции.
Он во время миссии в Рейнской армии добивался, чтобы заботу о семьях воинов брали на себя коммуны и местные власти; сегодня Конвент узаконил эту меру для всех департаментов.
Да и только ли это? Не он ли предложил «амальгаму» как основу новой армии? Не он ли, наконец, первым понял необходимость учреждения Революционного правительства и наметил его принципы?
Конечно, он мог бы гордиться, если бы обладал честолюбием. К счастью, он лишен честолюбия. Он просто знает, что сегодня по праву занял это высокое место над трибуной ораторов и столом секретарей, визави десяти рядов скамей, полукольцом окружающих зал.
Он привык к этому залу. Огромному, нескладному, длинному и узкому, с плохой акустикой и корявой росписью стен.
Он каждый день приходит в маленький салон за креслом председателя, приходит первым, чтобы проверить, все ли в порядке, на месте ли секретари, разобрана ли корреспонденция, которая будет оглашена.
Иной раз его посещают странные мысли.
Как-то, явившись слишком рано и не успев позавтракать дома, он послал в соседнее кафе с просьбой чего-нибудь принести. И вот он закусывал, прохаживаясь вдоль бюро, и, казалось, был занят серьезными размышлениями. Так казалось Бареру, который, будучи услужливым и любезным, стал приходить столь же рано, чтобы состоит, компанию председателю. Вдруг Сен-Жюст остановился, посмотрел внимательно на коллегу и воскликнул:
— Как ты думаешь, что бы сказал Питт, увидев председателя Конвента, завтракающего куском дешевой колбасы?
Барер оторопел и ничего не ответил.
Сен-Жюст и не ждал ответа. Он тут же понял, что сказал глупость. «Куском дешевой колбасы»… А был ли тот кусок у каждого из тех, кто составлял «державный народ», делегировавший его в Конвент?
Каждое утро начиналось с чтения корреспонденции.
Это был поток адресов от народных обществ из разных провинций и городов. Все уверяли «отцов отечества» к «святую Гору» в благоденствии и преданности народа. В «Бюллетене», рассылаемом по департаментам и в армии, он приводил выдержки из этих восторженных посланий, устраняя лишь иногда мелькавшие «фальшивые ноты» жалоб, касающихся продовольствия.
А жалобы все-таки нет-нет да и мелькали.
Эти жалобы сквозь славословия глубоко огорчали Сен-Жюста.
Как член Комитета общественного спасения, он ежедневно просматривал сводки полицейских наблюдателей, следивших за общественным мнением столицы. С конца плювиоза сводки стали приобретать угрожающий характер.
«Единственными виновниками своих бед, — писал наблюдатель Гривель, — люди из народа считают торговцев и мясников. Говорят, что достаточно часть их гильотинировать, чтобы вновь прийти к изобилию».
Наблюдатель Бакон доносил:
«Я слышал, как двадцать женщин уверяли, что народ с оружием в руках пойдет в Конвент, чтобы потребовать у депутатов ответа, собираются ли они положить предел разбою торговцев, грабящих бедняков».
Что и говорить, это было далеко от официальных славословий, каждое утро раздававшихся в Конвенте. Сводки наблюдателей заставляли о многом задуматься. Впрочем, что сводки… У Сен-Жюста были свои глаза и уши, он сам многое видел и еще больше слышал от своей хозяйки Полины, в доме Дюпле, в кафе да и в других местах.
Зима II года Республики выдалась на редкость тяжелой. Необычные для Парижа холода грянули неожиданно и застали врасплох. В плювиозе Сена покрылась льдом, и подвоз угля прекратился; пришлось снаряжать лесорубов в Булонский, Венсенский, Верьерский леса и в Сен-Клу. Сажень дров стоила 400 франков, и парижане, чтобы согреть еду детям, стали жечь столы, этажерки и кровати. Замерзли городские бассейны, и водовозам приходилось ездить за водой в отдаленные места реки; поскольку бедные люди не могли платить 20 су за доставку, они сами носили воду, а когда в вантозе оттаяли фонтаны, возле них стали образовываться очереди — «хвосты», как стали их теперь называть.
Хвосты… Если бы они были только у фонтанов!..
Зимой к картофелю и овощам было не подступиться: одна морковка продавалась за 4 су, кочан капусты стоил 12–15 су; достать сушеных овощей, риса, чечевицы, бобов не было возможности — все это поглотили военные склады. Хуже всего было с мясом. Вандейский мятеж отсек районы, дававшие убойный скот. Парижские мясники покупали мясо по высоким ценам и, вынужденные продавать его по ценам максимума, стремились обойти закон. Хорошее мясо приберегали для богачей, которые платили вдесятеро против таксы. Санкюлотам же оставались последки, к которым принудительно добавляли кости; впрочем, и подобное мясо, цена которого с 18 су на фунт быстро подскочила до 25, купить было невозможно. Женщины собирались у мясных лавок с полуночи и всю ночь шарахались от конных жандармов, «наводивших порядок». К рассвету вытягивался хвост. Чтобы не нарушать очереди, к двери магазина привязывали веревку, за которую покупатели хватались друг за другом, стараясь не допустить «втиравшихся». «Шутники» норовили перерезать веревку, и тогда очередь сбивалась, начинались споры и потасовки. Все эти мытарства не приводили ни к чему. К часу открытия лавок вдоль них выстраивались дюжие парни, под их прикрытием выносили лучшие куски и целые туши, большинство же стоявших с ночи расходились с пустыми руками.
Все это знал Сен-Жюст, знал прекрасно. Но знал он и другое. Комитет общественного спасения неустанно трудился над проблемами продовольствия. Робер Ленде возглавил Центральную продовольственную комиссию, которая учитывала как потребности граждан, так и возможности производства. Реквизиции, продовольственные налоги, увеличение посевных площадей, создание складов зерна — все эти меры, проводимые Ленде в сотрудничестве с Сен-Жюстом, осенью и зимой II года обеспечили снабжение армии. С гражданским населением дело обстояло сложнее. Установление максимума вызвало недовольство фермеров и купцов, что дезорганизовало торговлю. Но и здесь Комитет добился многого. Главное, кое-как решили краеугольную проблему — проблему хлеба. Ввели хлебные карточки. Запретили изготовлять пирожные и бриоши, отныне выпекался единый «хлеб равенства» из смеси пшеничной муки с ячменем, овсом или кукурузой. Суточные пайки держались на уровне 3 су за фунт. Сахар, растительное масло, соль и молочные продукты были также нормированы, что обеспечивало всем необходимый минимум. Сен-Жюст был уверен, что будут преодолены и трудности с мясом. Пока Конвент предложил «гражданский пост», а Коммуна расклеила указ, ограничивающий потребление мяса одним фунтом в декаду на человека, — приходилось считаться с обстоятельствами. И революционный народ, полагал Сен-Жюст, будет с ними считаться. Тем более беспокоила и возмущала борьба фракций, каждая из которых вводила в заблуждение народ, тем более было необходимо положить предел опасному пожару, разжигаемому рукой Иностранца.
В эти дни он записал в своем блокноте: «Иностранец, толкая от перемены к перемене, привел нас к крайностям; он же внушил и средства. Первая идея максимума пришла извне, принесенная Батцем; это был проект голода. Сегодня Европа играет на голоде, стремясь вызвать народную ярость и сокрушить Конвент, а с ликвидацией Конвента расчленить и уничтожить Францию…»
Этот блокнот он носил на груди и ни с кем не делился мыслями, которые туда заносил. Кто понял бы его мысль, что максимум — подарок Батца, если он сам поддерживал и защищал этот максимум?
Такова была сила обстоятельств.
Поддерживал и защищал, поскольку в данный момент не видел иного выхода: без максимума были невозможны реквизиции, а без них нельзя было выиграть войну. Но из этого вовсе не следовало, что максимум — благо. Он, как и Робеспьер, никогда не смотрел на максимум как на благо. Он подчинился силе обстоятельств. И всегда считал: по мере одержания побед над контрреволюцией, по мере перехода от войны к миру принудительные меры в области промышленности и торговли нужно ослаблять, а затем и вовсе свести на нет — только в этом случае республика устоит на ногах.
Но ослаблять постепенно — вот в чем суть вопроса.
А между тем Дантон утверждает, что отменять любые принудительные меры следует сразу и немедленно, точно так же как немедленно надо открыть тюрьмы и прекратить террор, в то время как Эбер беспрерывно будоражит народ, призывает к новым эксцессам и усилению террора.
Впрочем, Сен-Жюст давно понял, что противоположность этих внешне враждующих сторон только кажущаяся, а хозяин у них один…
Он представлял себе Батца как некую мифологическую фигуру титана, чья голова скрыта в облаках, руки охватили народные общества, а ноги увязли: правая — в дантонизме, левая — в эбертизме. Дернет титан правой ногой — умеренные зашевелились, дернет левой — и на поверхность вылезли ультра, сожмет объятия — и затрещали народные общества. А головы не видать, она в облаках, и никак не узнаешь, кому она скалит пасть, куда повернута: в сторону Англии, Австрии или Пруссии, Питта, Кобурга, Луккезини или графа Прованского?..
И что же такое этот Батц? Один человек? Или группа лиц? Подлинное имя или, может быть, псевдоним?
Его разыскания об экс-бароне подвинулись вперед; и чем больше он узнавал, тем более убеждался: на Батца работали обе группировки.
Между февралем 1792-го и августом 1793 года Батц трижды пытался спасти из тюрьмы королеву, происходило это буквально под носом у Эбера, фактического хозяина Тампля, а некоторые эбертисты лично участвовали в деле; однако ни один из них не пострадал, и даже те, кого по явным уликам арестовали, вскоре оказались на свободе.
Один из полицейских, участников третьей попытки, подкупленный Батцем, решил его шантажировать. Барон отправился с жалобой… в Комитет общей безопасности! Комитет первого состава был дантонистским, главную роль в нем играл Шабо. И что же? Батц был внимательно выслушан и отпущен с миром, полицейского же арестовали.
Спохватившись, Комитет решил задержать Батца и 30 сентября поручил полицейскому комиссару арестовать барона и обыскать его жилище. Арестовать его, однако, не удалось, он успел скрыться, обыск же ничего не дал; правда, были схвачены немногие служащие и друзья Батца, но по непонятным причинам их всех отпустили.
В афере Индийской компании Батц был изобличен доносом Шабо. Доносчик просил прийти полицейских к нему на квартиру в 8 вечера, уверяя, что в этот час заговорщики будут в сборе и их всех захватят; но почему-то жандармы пришли в 8 утра, и Батц, узнав об аресте сообщников, как обычно, растаял в воздухе.
Ну можно ли было еще сомневаться? И не следовало ли приоткрыть Конвенту завесу?..
22
Для Сен-Жюста трудовой народ, обездоленные с их надеждами и интересами всегда оставались предметом дум и забот.
— Бедняки, — говорил он, — это соль земли.
Во имя их был введен революционный террор. И вот, ныне революция двигалась под флагом нарастающего террора.
Террор… Одни хотят его немедленно сворачивать, другие — расширять сверх всяких пределов. Ни то, ни другое — отвечает жизнь. Террор прекращать рано: он уберегает нас от козней аристократов. Но что спасет республику от коррупции, от нечестности чиновников, от своекорыстия частных интересов, скрывающихся под маской патриотизма, от тайной измены долгу под девизом исполнения долга? Только одно — оздоровление нравов. А как оздоровить нравы? С помощью террора?
Когда-то, и не так уж давно, Сен-Жюст держался таких мыслей. Но именно применение террора показало ему, что это не путь в будущее. И еще он понял, что, даже если бы была возможность создать и применять хорошую конституцию, это мало бы что дало: никакая конституция не в силах изменить ущербное состояние общества.
И тогда-то он впервые произнес про себя фразу, которую потом повторял много раз, фразу, на его взгляд, вполне достойную мудрости древних: Non constitutio, sed institutio.
[31]
Нет, не конституция исцелит порочные нравы. Их могут изменить только новые политические и нравственные институты, построенные на принципе добродетели, социальные учреждения, глубоко реформирующие внутреннюю суть общества, приводящие к его коренному оздоровлению. Республика нуждается — это неоспоримо — и республиканских учреждениях.
С тех пор как Сен-Жюст понял это, он твердо решил посвятить все свои досуги разработке проектов республиканских учреждений. Вот беда только, что досугов этих пока не было вовсе: приходилось отдавать все силы неведомому Батцу, иностранному заговору, борьбе фракций.
А тут еще этот доклад…
Впрочем, как раз в этот доклад он и вложил ряд мыслей, которые затем станут основой его будущего труда о республиканских учреждениях.
Еще в апреле 1793 года, разрабатывая проект конституции, Сен-Жюст много думал о богатых и бедных, о роли собственности и роли труда. Уже в то время он пришел к выводу, что именно труд, а не индивидуальная собственность, дошедшая до уровня богатства, нуждается в национальной охране. Работа в Комитете общественного спасения и в особенности миссия в Эльзасе не только укрепили его в этом выводе, но сделали вывод еще более острым. Он понял, что даже само стремление богатых к большему обогащению, пусть без умышленных контрреволюционных намерений, ведет к контрреволюции. Взять к примеру Жоржа Дантона, отнюдь не считающегося богачом и крупным землевладельцем, Дантона, кичащегося «санкюлотизмом», Дантона, чье дело, затребованное из Комитета безопасности, лежит сейчас перед ним, Сен-Жюстом. Только в апреле 1791 года Дантон приобрел около ста гектаров земли и превосходную усадьбу, заплатив почти 83 тысячи ливров наличными; около 75 гектаров составляла образцовая ферма, купленная Дантоном и сдаваемая им в аренду; наконец, в последнее время, чтобы доставить удовольствие своей молодой жене, Дантон обзавелся двумя зáмками — в Шуази и в Севре. Допустим, что у него нет контрреволюционных намерений, но разве сама собственность, растущая как на дрожжах, не развращает Дантона и его свору, разве она не заставляет кричать этих господ о ликвидации экономических ограничений, о «милосердии», об открытии тюрем? Разве не потому стремятся они сломать эшафоты, что сами боятся на них попасть? Не ограничиваясь постоянным нарушением закона о максимуме, богачи занимаются экономическим саботажем, спекулируют на земле, на ассигнациях, на продовольствии, создают черный рынок, собирающий все отбросы общества. Но это лишь полбеды; беда же в том, что большая часть богатых увязла в
прямой измене, что банкиры, негоцианты, крупные землевладельцы являются и
прямыми контрреволюционерами, агентами иностранных правительств, изменниками родины и шпионами, стремящимися уничтожить все завоевания свободы и вернуть Францию к временам рабства. Значит, богатство не только аморально, но и враждебно республике. Естественным выводом из этого является уверенность, что нужно бороться с богатством и богачами.
В мудро устроенном государстве все достояние нации является собственностью не отдельных богачей, но всего народа. Хлеб, получаемый от богатого, горек и грозит опасностью для свободы. Хлеб должен принадлежать народу. Только народу, только тем, кто трудится. Так будет в мудро устроенном государстве. Точнее, в государстве будущего.
О как страстно он ждет это будущее, как призывает его! Хотя и знает, что придет оно не скоро. Но придет, он уверен — придет.
Тогда все изменится. Не будет ни богатых, ни бедных, все станут равными не только как граждане, но и как собственники: каждый будет иметь необходимое, но не больше, чем позволит закон; каждый будет независим, получит хижину, соху и поле, свободное от притязаний казны; каждый будет иметь хорошую жену, здоровых и сильных детей, скромный достаток, гарантированный от грабителей, — разве это не счастье? Да, конечно, оно непохоже на счастье развратителей человечества, на счастье Вавилона или Персеполя; скорее оно напоминает счастье Афин или Спарты в их лучшие времена, счастье добродетели, довольства и умеренности. Воспитание детей, жизнь взрослых, труд и празднества — все придет здесь в состояние полной и устойчивой гармонии, лишенной срывов и потрясений наших дней, забывшей о максимуме и терроре. Разве это не счастье, не лучшая и единственно возможная разновидность его для всего народа?
И если мы не дождемся его, то дождутся наши дети. Или внуки. Дождутся обязательно.
Однако надо помнить: ничто в мире не приходит само собой, ничто не дается легко. И всякое большое начинается с малого, но когда-то начать необходимо. Хлеб должен принадлежать народу. Но для этого народ должен иметь землю. А разве он имеет ее? Разве большинство жалоб из провинции не жалобы на отсутствие земли? Разве не отсюда упорное требование пресловутого «аграрного закона»? Якобинский Конвент, сломив жирондистов, смело приступил к решению аграрной проблемы. Он безвозмездно отменил феодальные повинности и стал продавать землю крестьянам. Продавать. Но разве всякий может купить? Разве может уплатить за землю, пусть по льготной цене, пусть с рассрочкой, тот, кто не имеет денег и кто именно поэтому особенно нуждается в земле?
Рука человека хорошо приспособлена, чтобы держать плуг или ружье. Бедняк с ружьем в руках отстоял свою землю от иностранцев. Разве одним этим он не заслужил права держать в руке плуг? Свой плуг…
Бедняки — это соль земли. И поэтому они должны иметь землю. Бесплатно. За счет врагов народа.
Таковы были порывы и идеи, положенные в основу этого доклада.
У доклада была своя предыстория. Социально-экономический кризис обострился с особенной силой в начале вантоза. В то время как Эбер призывал санкюлотов к голодным мятежам, клика «снисходительных» вновь добилась успеха в Конвенте. 4 вантоза дантонисты Бреар и Тайфер поставили вопрос о необоснованных репрессиях. Резко выступив против «красных колпаков», якобы утеснивших «лучших патриотов», они потребовали, чтобы был пересмотрен вопрос о находившихся в тюрьмах. Требование было не ново: еще во фримере, когда Сен-Жюст и Леба воевали в Эльзасе, раздались первые упреки подобного рода; была даже организована манифестация женщин, пришедших к решетке Конвента с требованием об освобождении своих арестованных мужей. Именно тогда смущенный Робеспьер пошел на создание «комитета справедливости», призванного ревизовать дела «подозрительных» и вскоре упраздненного по инициативе Бийо-Варенна. Эта первая кампания не прошла бесследно: 14 плювиоза ведущие эбертисты Ронсен и Венсан была освобождены из тюрьмы; сделано это было по предложению Дантона. Новый демарш дантонистов, проведенный в критический для правительства момент, застиг Конвент врасплох. После коротких дебатов он сумел все же уклониться от прямого ответа и вынес соломоново решение: декрет от 4 вантоза предлагал, чтобы правительственные комитеты на совместном заседании пересмотрели дела «подозрительных» и решили, кого из них следует освободить. Учитывая, что Робеспьер и Кутон были больны, комитеты поручили подготовить материал Сен-Жюсту; он должен был 8 вантоза доложить Конвенту о лицах, находившихся в тюрьмах.
И вот, после почти пятимесячного перерыва, он снова на ораторской трибуне. Он начинает с того, что напоминает о возложенной на него задаче — найти эффективный способ освобождения патриотов и наказания виновных. Но, не дав опомниться слушателям, он тут же уходит от этой задачи:
— Я не хочу ставить перед вами данный вопрос в роли обвинителя или защитника… Нужно решать не то, как поступить с отдельными лицами, а то, как спасти республику…
Дав подобный поворот теме, Сен-Жюст заявляет «снисходительным», что не пойдет у них на поводу.
— От арестов зависят поражения или победы наших врагов. Сетуют на революционные меры, но по сравнению с другими правительствами мы еще умеренны… Монархия, цепляясь за власть, плавала в крови трех десятков поколений, а вы колеблетесь, когда надо проявить суровость к горстке преступников!
Еще и еще фраза, и вот уже «арестованные патриоты» превращаются в «арестованных аристократов», а затем фракция модерантистов попадает под долгий и меткий обстрел докладчика.
— Требующие свободы для аристократов не желают республики и боятся за себя. Жалость к преступникам не первый ли показатель измены? Ручаюсь, что выступающие в защиту арестованных аристократов не рискнут предстать перед общественным обвинением…
В речи Сен-Жюст намекает на Дантона, «лелеющего замыслы заставить патриотов отступить», на Демулена, «менее занятого победами республики, чем своими памфлетами», укоряет революционеров, которые, «сделав революцию лишь наполовину, сами роют себе могилу». Так постепенно он подменяет тему, навязанную Конвенту дантонистами, противоположной: вместо осуждения революционного террора показывает его спасительность, подчеркнув, впрочем, что террор террору рознь:
— Террор — обоюдоострое оружие; одно его лезвие служит народу, другое — тирании; террор наполняет тюрьмы, но далеко не всегда наказывает виновных…
Это ли не намек на ультра? На фракцию, избравшую террор, «святую гильотину» как лекарство от любой социальной болезни?
И наконец, ловким приемом Сен-Жюст объединяет обе фракции в «секту, играющую всеми сектами» и попеременно показывающую то одну, то другую из своих ипостасей:
— Когда вы говорите о терроре, она плачет о милосердии, но попробуйте проявить милосердие, и она завопит о терроре…
«Секта, играющая всеми сектами»… Но кто же играет ею самой? Кто направляет ее коварные выпады? Как бы походя он бросает:
— Это Иностранец, разными средствами защищающий преступных…
Он не называет имени, не останавливается на этом предмете; быстро пройдя мимо «иностранца», спешит сказать о главном:
— Мы имеем правительство; мы имеем и власть, и административный аппарат; нам недостает одного: институтов, учреждений, которые должны составить самый дух республики…
Проблема поставлена; теперь, однако, не время ее разрешать; сосредоточив внимание депутатов на общем зле и в общей же форме коснувшись средств к его исправлению, докладчик сейчас укажет только одну, но остро необходимую меру:
— Я полагаю, что сила вещей приведет нас к результатам, о которых мы сейчас и не помышляем… Революция с неизбежностью внушает нам, что тот, кто является врагом родины, не может быть собственником. Неужели народ, проливающий свою кровь на границах, должен быть несчастнее тиранов, которые одевают в траур его семьи? Вы обязаны признать принцип: только те имеют права в нашей стране, кто объединился, чтобы ее защищать. Покончим же с нищетой, которая позорит свободное государство; собственность патриотов священна; собственность врагов народа должна служить всем обездоленным. Бедняки — это соль земли; они имеют право по-хозяйски говорить с правительствами, которые о них забывают!..
Последние слова оратора потонули в рукоплесканиях. Аплодировали кто искренно, кто потому лишь, чтобы не быть заподозренным в иных убеждениях, но аплодировали все. Под гром аплодисментов был принят декрет, предложенный Сен-Жюстом: арестованные патриоты подлежали освобождению; собственность врагов революции объявлялась секвестрованной, сами же они оставались в тюрьмах до конца войны, а затем обрекались на вечное изгнание.
Сен-Жюста не обманул видимый энтузиазм: он прекрасно понимал, что на этом останавливаться нельзя. Декрет 8 вантоза был недостаточен; каждая фракция постаралась обратить его в свою пользу. В то время как Клуб кордельеров — становище ультра — прислал делегацию к Якобинцам для «установления единства», друзья Дантона бурно приветствовали обещанное освобождение «утесненных патриотов». Учитывая это и желая поставить все точки над «и», ровно через четыре дня он снова выступает в Конвенте, чтобы доложить депутатам о «способах исполнения декрета против врагов революции».
Это уловка. Меньше всего оратор расположен говорить о декрете 8 вантоза. Он думает совсем о другом. Стремясь выбить почву из-под ног вожаков фракций, он хочет изобличить «утесненных патриотов» и добиться, чтобы вопрос о них больше не ставился. Но главное, он должен превратить декрет в подлинное оружие против врагов и в действенную помощь друзьям.
Итак, кто же они, эти «утесненные патриоты»? Прежде всего — опозорившиеся крупные чиновники административного аппарата. С талантом сатирика дает он портрет одного из них:
— На следующий день после получения высокого поста сей муж занимает реквизированный дворец и заводит лакеев. Его жена, жалуясь на тяжелые времена, скупает меха и бриллианты и устраивает роскошные приемы. Муж спешит вытребовать для себя казенную карету и ложу в театре. Когда эти равнодушные подлецы убивают время в наслаждениях на деньги республики, народ пашет для них землю, изготовляет обувь и оружие для солдат, которые должны их защищать. Они же не только кутят, но и всячески критикуют правительство. «Если бы я был министром…» — говорит один. «Если бы я возглавил
государство, — вторит другой, — наши дела шли бы куда лучше!» Вчера эти воры покрыли себя бесчестьем, сегодня в качестве «утесненных патриотов» молят о сострадании!..
Докладчик меняет тон. От сатиры он переходит к устрашению. Он призывает депутатов понять величину опасности и полную невозможность щадить подобных людей.
— Что же происходит с нашим обществом? Оно узурпировано функционерами. В бюро они располагают заместителями и служащими, в народных клубах спешат овладеть общественным мнением. Они стремятся захватить власть под предлогом, что действуют революционно, словно в них сосредоточилось Революционное правительство. Это прямой возврат к федерализму. Чиновники всех мастей и рангов должны беспрекословно подчиниться правительству, иначе они превратятся в узурпаторов, тиранов и утеснителей народа…
Рядом с функционерами Сен-Жюст помещает эгоистов и тунеядцев, равнодушных к общему делу.
— Это класс, который ничего не производит, но желает жить в роскоши и неге. Он должен быть подавлен в первую очередь… Обяжите всех чем-то заниматься, выбрав профессию, полезную обществу. Разве мы не нуждаемся в строительстве кораблей, устройстве мануфактур, распахивании целинных земель? Какое право на родину имеет тот, кто ничего для нее не сделал?..
И наконец, докладчик вспоминает еще об одной, хорошо известной ему категории «утесненных патриотов» — о дельцах и банкирах.
— Посмотрите на этих господ, — иронизирует Сен-Жюст, — они надели длинные брюки
[32] и вырядились под санкюлотов. Как революционны их предложения! Как пекутся они о защите отечества! И как ловко нас продают! Они не станут противиться нашим мерам, они мягко сведут их на нет и погубят родину, не произнеся бранного слова…
Докладчик замолчал. Вероятно, вспомнил старика Мейно из Страсбурга и гильотину на Мезон-руж… Но нужно было привести в чувство сникших депутатов, чтобы безболезненно вырвать у них готовое решение.
— Народы Европы обмануты, — воскликнул Сен-Жюст, — их пичкают баснями о происходящем у нас; наши дискуссии высмеивают и искажают; но никто не в силах исказить наши великие законы, — они проникают в зарубежные государства как негасимый луч света. Пусть же узнает Европа, что вы не оставите больше ни одного несчастного и угнетенного на всей французской земле; пусть пример этот оплодотворит мир, став пропагандой любви к добродетели и счастью. Ведь счастье — идея новая для Европы!..
И снова гром аплодисментов потряс своды зала. И снова депутаты с энтузиазмом и без прений вотировали декрет.
Декрет от 13 вантоза предписывал всем коммунам республики составить списки неимущих патриотов, а Комитет общественного спасения, получив эти списки, должен был изыскать способы наделения обездоленных за счет имуществ врагов народа; одновременно Комитет общей безопасности обязался собрать точные сведения обо всех арестованных с 1 мая 1789 года и освободить заключенных патриотов.
Сен-Жюст хорошо знал, в какое время он выступает: его демарш приостановил дальнейшее развитие жесточайшего кризиса республики. Вряд ли у кого вызывало сомнение, что наказ освободить «заключенных патриотов» всего лишь тактический маневр, рассчитанный на то, чтобы ослабить нападки «снисходительных» на правительство, — оба доклада Сен-Жюста говорили об этом с полной очевидностью. Зато обещание «обездоленным» попадало в самую точку. Вопрос о конфискации имуществ «подозрительных» и вознаграждении неимущих патриотов широко обсуждался в секциях и народных обществах в плювиозе и начале вантоза. Поэтому санкюлоты Парижа были глубоко удовлетворены вантозскими декретами.
«Патриоты вздохнули свободно», — констатировал наблюдатель Дюга. Другой наблюдатель доносил: «Во всех кафе говорят о декрете, распределяющем имущества аристократов среди санкюлотов. Этот популярный закон вызвал всеобщую радость, граждане поздравляют друг друга. „Вот декрет, — говорил один, — значащий больше, чем десять побед на фронте. Какую энергию придаст он нашим солдатам!“ — „Теперь, — сказал другой, — основа республики непоколебима: ни один враг революции не будет собственником, ни один патриот не останется без собственности“».
Высоко оценил декреты Шометт, признав их «благодетельными» и «спасительными для республики».
Иначе откликнулся Эбер. Правда, в начале очередного номера «Отца Дюшена» он назвал декреты «великолепными», но дальше прибавил слова, показавшие ироничность этого определения: «Напрасны попытки сохранить козу и капусту; тщетны старания спасти злодеев, плетущих заговоры против свободы. Справедливость восторжествует вопреки усыпителям, которые хотят нас заставить пятиться назад».
— Это нас ты считаешь усыпителями, — проворчал Сен-Жюст, прочитав последние строки. — Ладно, ты получишь желаемое: не будет ни козы, ни капусты. Да только сам ты этого уже не увидишь…
23
За время болезни Робеспьера он облюбовал его кабинет на втором этаже Дворца равенства. Здесь он часто запирался и уходил в бумаги. Стремясь понять все извивы действий эбертистов и дантонистов и по-прежнему думая, что нити их ведут за границу, Сен-Жюст искал новые материалы о Батце, старался продумать их и связать со всем происходившим вокруг.
Прежде всего оказалось, что Жан де Батц, гасконец из Альбре, до революции был мелким дельцом. Проживая в Париже, в квартале Вивьенн, пристанище игорных домов и притонов, он держал на улице того же имени контору Общества страхования жизни. Казалось бы, занятие, мало подходящее для барона. Но во-первых, барон был самозваным, а во-вторых, и Сен-Жюст знал это очень хорошо, при старом порядке «благородные» не чурались денег от содержания сомнительных контор и других злачных заведений. Тем более что, как выяснилось, компаньоном учредителя Общества был некий маркиз де Гиш, подлинный аристократ.
Батц, делец с улицы Вивьенн, и Батц, депутат Учредительного собрания, — одно ли это лицо? Возможно, полагал Сен-Жюст, поскольку Батц — депутат в Ассамблее также занимался финансовыми вопросами.
Пока все было просто. А дальше начинались дела таинственные.
Гиш эмигрировал в 1789 году, Батц последовал за ним в начале 1792 года. И вдруг в том же году человек с тем же именем оказывается во Франции. Мало того: он дает Людовику XVI взаймы 512 тысяч ливров, что следует из записки самого короля! Каким же образом мелкий хищник, бежавший из Франции, стал кредитором монарха накануне падения монархии? Казалось бы, перехваченное деловое письмо отвечало на этот вопрос. Отвечало, но запутывало его еще больше. Из письма следовало, что Батц 1792 года располагал огромными суммами; он имел в разных банках Европы до 10 миллионов ливров, в том числе в золотых луидорах — большая редкость для того времени. Это поясняет, откуда Батц взял деньги для короля, но одновременно порождает неразрешимый вопрос: кто давал ему, совладельцу мелкого страхового общества, такие колоссальные суммы?..
Материалы Комитета общей безопасности рассказали Сен-Жюсту, что 21 января 1793 года, когда бывший король в карете, окруженной стражей, следовал из Тампля на эшафот, на углу бульвара Бон-Нувель и улицы Люн несколько человек прорвались сквозь ряды национальных гвардейцев, а один из них, со шпагой в руке, крикнул: «К нам, друзья, кто хочет спасти своего короля!» На миг возникло замешательство, потом ряды сомкнулись и смяли безумцев, но трое успели спастись: сам Батц, его секретарь Дево и компаньон де Гиш…
Опять де Гиш, удивлялся Сен-Жюст, в то время как де Гиш давно был вне Франции и сражался в армии принцев! Очевидно, в попытке спасения короля под именем Гиша скрывался кто-то другой; действительно, один случайный документ раскрыл имя этого псевдо-Гиша: его звали Савиньон. А сам Батц, возглавивший авантюру, был ли он де Батцем с улицы Вивьенн? Сен-Жюсту представлялось это совершенно невероятным: хозяин страхового общества и отчаянный бреттер, идущий со шпагой в руке на смертельно опасное дело, не совмещались, тем более что, по агентурным данным, Батц, как и Гиш, продолжал пребывать за границей. Ясно: Батц, пытавшийся спасти короля, а затем и королеву, Батц, купивший роскошный особняк в Шарроне, где часто собирались Дантон, Шабо, Делоне и другие и где была задумана ост-индская афера, Батц, державший в сетях Эбера и его соратников, не имел ничего общего с Батцем с улицы Вивьенн. Точнее, общим было только имя, которым воспользовался авантюрист псевдо-Батц. Но можно ли было установить подлинное имя этого авантюриста и определить, кто за ним стоял?
Изучая материалы обоих комитетов, относящиеся к международному шпионажу, Сен-Жюст обратил внимание на парижский центр, финансировавшийся то ли австрийской группой Луккезини, то ли прусской князя Гарденберга. Этот центр, постоянно избегавший разгрома, был, видимо, связан с лидерами дантонистов и эбертистов; он возглавлялся неким загадочным иностранцем по имени Джемс-Луис Рис. Об этом Рисе имелись кое-какие сведения. Ирландец, учившийся в Лувене, он вступил в австрийскую армию, оказался на секретной службе и стал доверенным лицом Иосифа II. В 1778 году на курорте в Бате он убил на дуэли виконта дю Барри, родственника фаворитки Людовика XV, за что получил прозвище Бат…
Отныне у Сен-Жюста почти не оставалось сомнений, что Джемс Рис и псевдо-Батц из Шаррона одно лицо: прозвище Бат легко переделывалось в Батц и звучало почти одинаково. Итак, недаром во всех своих речах и записках он называл Батца Иностранцем. Интуиция не подвела: псевдо-Батц действительно был иностранцем…
…Сен-Жюст откидывается на спинку кресла. Ну и горе-деятели в этом Комитете безопасности: заблудились в трех соснах и не могут разобраться в самых простых вещах. А может быть, не хотят?.. Впрочем, сейчас нельзя влезать в это, надо пристально следить за эбертистами: все симптомы близкой развязки налицо…
Да, симптомы были налицо. Кордельеры бурлили и пытались опереться на санкюлотов Парижа. Венсан и Ронсен, наконец освободившиеся из заключения, жаждали мести. Венсан сразу потребовал, чтобы его приняли в члены Якобинского клуба. Но якобинцы отказали, выразив этим прямое недоверие. Тогда Моморо, один из лидеров ультра, выступил у Кордельеров, обрушившись на «износившихся вождей, людей с переломанными в революции ногами». Все поняли неприкрытый намек на болеющих Кутона и Робеспьера.
Это была прелюдия. Подлинный взрыв произошел 14 вантоза, сразу же после второго вантозского доклада Сен-Жюста.
В этот день на заседании Клуба кордельеров первым взял слово Эбер: он прочитал проспект газеты, которую решил издавать в память о Друге народа. Тут же в знак протеста против действий правительства, поправшего идеи Марата, Декларация прав на стене Клуба завешивается черным покрывалом; в таком виде она останется до тех пор, пока народ «не уничтожит клику».
Венсан уточняет, о какой «клике» идет речь: это «презренные модерантисты, все эти люлье, дюфурни, филиппо и бурдоны, более опасные, чем Бриссо». Характерно, что ни Дантон, ни Демулен не названы. Венсан требует прибегнуть «к оружию страха, который гильотина внушает всем врагам народа».
Затем выступает Карье, самый страшный из «проконсулов», широко известный необоснованными репрессиями в Нанте. Напуганный угрозой отзыва, Карье становится в позу обличителя: он поражен тем, что умеренные заседают на Горе; он возмущен тем, что в Конвенте скорбят о «сраженных национальным правосудием».
— Восстание! — вопит он. — Святое восстание — вот чем мы должны ответить злодеям!..
Слово произнесено; неужели кордельеры откликнутся на него?
Снова поднимается Эбер. Он начинает с разоблачения арестованных «сообщников Бриссо». Почему Шабо и Фабра до сих пор не покарали за их злодеяния? Почему член Комитета общей безопасности Амар медлит с докладом? Распаляясь, Эбер подбирается к основному.
— Воры, — заявляет он, — менее опасны, чем честолюбцы. Чем большей властью они завладевают, тем ненасытнее становятся; они стремятся к единоличному господству!..
Намек прозрачен: о ком речь, если не о Робеспьере и Сен-Жюсте?
— Я назову этих людей, — повышает голос Эбер, — я назову вам тех, кто затыкает рот патриотам… Два месяца я сдерживаюсь, но не могу больше. Я знаю, что они замыслили, но найду защитников…
— Назови! Назови их! — кричат отовсюду.
— И назову, — обещает Эбер, но никого не называет.
— Мы защитим тебя, не бойся! — подбадривают с мест.
— Не узнаю папашу Дюшена, — поддразнивает Венсан, — право, уж не умер ли он?.. Да говори же, не бойся, ведь мы все с тобой!
Все это не воодушевляет Эбера: боясь произнести имя, он словно чувствует, что все пропало, даже не начавшись. С трудом он выдавливает из себя фразу о «человеке, вероятно впавшем в заблуждение»… Кто это? Робеспьер? Сен-Жюст? Оратор не уточняет. И все же, кое-как поборов страх, заканчивает свою бессвязную речь тем же призывом, что и Карье:
— Восстание! Да, именно восстание! Кордельеры первыми подадут сигнал, сразив всех угнетателей!..
…Сен-Жюст удовлетворенно отодвинул листки донесений и не стал читать дальше.
Он тут же отправился к Робеспьеру.
Робеспьер выздоравливал. Еще очень слабый, он рвался в Конвент, и только старания Элеоноры удерживали его дома. Когда Антуан рассказал о происшедшем у Кордельеров, Неподкупный вскочил.
— Неужели они отважатся на восстание?
— Спокойнее, мой друг, — удержал его Сен-Жюст. — Не волнуйся понапрасну. — Это вопль отчаяния, судорога конца. Их не поддержат.
— Почему ты так уверен? Париж велик!
— Париж не шелохнется — или ты забыл наши декреты? Сейчас верят не им, а нам. Идиоты! Они называют нас «износившимися», «людьми с переломанными ногами». И вот теперь они сами сломали шею.
Робеспьер окинул его странным взглядом и прошептал:
— Как жаль, что я разболелся не вовремя…
— К финалу наверняка поспеешь, — успокоил его Сен-Жюст.
Он был прав: Париж не шелохнулся.
В отчаянии вожаки ультра попытались увлечь Коммуну.
18 вантоза секция Марата, во главе которой стоял Моморо, явилась в полном составе в Генеральный совет Коммуны с заявлением, что она «поднялась» и не успокоится до тех пор, пока лица, преследующие патриотов, не будут привлечены к ответственности.
Шометт призвал секционеров к спокойствию. Чтобы показать, насколько пустым является их порыв, он напомнил:
— Конвент только что принял по основательному докладу Сен-Жюста превосходный закон, передающий имущество «подозрительных» неимущим патриотам. О каком же восстании может идти теперь речь?..
Секционеры разошлись. Видя, что все рушится, вожаки дали отбой.
Сен-Жюст знал, что последний ход придется сделать в Комитете общественного спасения. И знал, что сделает его точно.
В Комитете дело облегчалось тем, что Бийо-Варенн, главный защитник ультра, находился в миссии в Сен-Мало. Карно, Приер и Ленде в вопросе о крайних были целиком на стороне Сен-Жюста, Робеспьера и Кутона. К ним, разумеется, примкнул и Барер.
Оставался Колло д’Эрбуа.
Но один Колло, несмотря на всю свою хватку, не смог перебороть большинство. Единственное, чего он добился, — это разрешения на попытку «вразумить» кордельеров.
Кордельеры по-братски приняли Колло, встретив его выход на трибуну дружными аплодисментами. Он сказал:
— Пусть тот, кто завесил Декларацию, укажет нам тирана.
Ему ответило смущенное молчание.
Тогда он объяснил, что нынешнее время в корне отличается от дней 31 мая — 2 июня, поскольку против тирании жирондистов восстание было необходимо, а против кого же восставать теперь, когда Конвент защищает интересы всего народа? При этом, подчеркнул Колло, враги сеют смуту в то время, когда идет война и Питт пророчит гибель французам!..
Совершенно растерявшийся Эбер пытался доказать, будто, говоря о «восстании», он имел в виду… более тесное единение со всеми добрыми патриотами. Карье также уверял, что газеты перепутали, что речь шла об условном восстании…
Спускаясь с трибуны, Колло пожал руку Карье и с презрительным сожалением взглянул на Эбера. Под крики «Да здравствует республика!» кордельеры бросились обнимать Колло. Сорвав с Декларации прав завесу и разодрав ее в клочья, они вручили эти траурные обрывки «вразумителю»: Колло должен был доставить их в знак примирения и подчинения в Якобинский клуб.
Тщетные старания! Все было уже решено, и решено окончательно.
В полдень 23 вантоза Сен-Жюст снова поднялся на ораторскую трибуну Конвента — третий раз в этом месяце.
Его новый доклад подводил черту.
Начав с злободневного вопроса о кордельерской авантюре, оратор обратился к теме восстания в ее логическом и идейном аспекте. Он сказал:
— Между свободными правительствами и свободными народами существует естественное соглашение, в силу которого правительства обязуются жертвовать собой во имя родины, а народы обязуются быть справедливыми. Восстание — это гарантия народов, которая не может быть ни изменена, ни запрещена. Но правительства также должны иметь гарантию; она заключается в справедливости и добродетели народа…
Отсюда Сен-Жюст выводил, что «самый зловещий заговор против правительства состоит в развращении общественной совести, в отклонении от справедливости и добродетели, с тем чтобы, лишив правительство гарантии, осмелиться на все ради его разрушения».
Это приговор эбертистам, приговор беспощадный. Как и в первом вантозском докладе, «срывая маску с Иностранца», оратор разоблачает обе фракции, но если раньше огонь был направлен преимущественно против дантонистов, то теперь Сен-Жюст касается их лишь мимоходом, отдав всю силу своей холодной ярости группе Эбера. Но и сегодня ни имя Иностранца, ни другие имена названы не были.
— Интересы народа и правосудия не позволяют пока говорить подробнее, — заметил он, объясняя этот маневр. — Однако для захвата виновных приняты все меры: они полностью оцеплены.
Это была правда.
В ночь с 23 на 24 вантоза Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и другие вожаки кордельеров были арестованы. 28-го к ним присоединили Шометта и многих секционных активистов.
— Итак, с левой ногой господина Батца мы справились, — заметил себе Сен-Жюст. — Осталось выдернуть его правую ногу. Вот и конец этой пошлой трагикомедии.
Трагикомедии… Но не слишком ли уподоблял он действительность театру или азартной игре? Не слишком ли втянулся в эту игру, которую сам затеял? Не слишком ли увлекся «иностранным заговором», Батцем и псевдо-Батцем, шпионами и псевдошпионами, действительными и воображаемыми?
Во всяком случае, в своей вражде к ультра он не пожелал разглядеть того справедливого, что было в их программе. Не разглядел он и санкюлотов, стоявших за эбертистами.
Он думал, что привлек народ своими вантозскими декретами. Но ведь декреты нужно еще было реализовать. А будут ли они реализованы? И что смогут дать бедноте в самом лучшем случае?..
24
На первой странице газеты Эбера давалась лубочная картинка: дюжий молодец в треуголке и с трубкой в зубах, и рядом жаровни с углями; папаша Дюшен был продавцом жаровен. Сен-Жюст вспомнил об этом, когда в день казни Эбера, 4 жерминаля, услышал из окна песенку уличных мальчишек:
Небо! В дивнейшую эру
Был он мастером речей.
Почему ж превысил меру
Славный продавец печей?
Говорят, что в темном склепе
Звал он в заговор друзей
И, чтоб все повергнуть в пепел,
Раздувал огонь печей.
Говорят, что англичане,
Нас считая за чижей,
Посылали уголь в чане
Для топимых им печей.
Ну уж эти мальчишки! Интересно, кто сочиняет подобные песенки, которые поет затем весь Париж?
В дни процесса эбертистов, 1–4 жерминаля, Сен-Жюст пристально следил за общественным мнением; установить истину здесь оказалось нелегко. Секционные организации поспешили проявить лояльность. Клуб кордельеров растерялся. Говоря о заседании Клуба 26 вантоза, наблюдатель Гривель заметил, что «это было собрание, подтвердившее пословицу: поразите пастуха — и стадо разбежится». Другие наблюдатели сообщили, что в день ареста на улицах, в кафе, на рынках слышались возгласы: «Пусть они погибнут, злодеи!.. Это Эбер явился причиной голода, возбуждая народ, принуждая его кричать против скупщиков и захватывать все поступавшее в Париж!» Говорили также, что «крайности» папаши Дюшена — маневр Питта.
Однако были и другие мнения. Вот что доносил Латур-Ламонтань: «Говорят разное. Одни радуются, что дело будет быстро закончено; другие жалуются, что оно не будет достаточно обсуждено. Защитники Эбера утверждают даже, что это новый мученик свободы и что процесс не обнаружил решающих улик против него». А по Парижу ползли слухи: скоро перед Трибуналом предстанут Бушотт, Сантер, Анрио, Паш; называли и Колло д’Эрбуа. Говорили, что, если бы Марат был жив, его тоже ждала бы гильотина…
Да, нелегко было установить истину. А впрочем, нужно ли ее устанавливать? Ведь Антуан понимал, что процесс ультра — процесс политический, ради наказания тех, кто уничтожил бы его, Робеспьера, Кутона, не окажись он, Сен-Жюст, предусмотрительнее и тверже, чем они, сидящие на скамье подсудимых. И поскольку он представлял интересы народа, его политические соперники должны были погибнуть как враги народа, тем более что все они являлись агентами Иностранца.
Чтобы процесс был более впечатляющим, прокурор Фукье-Тенвиль составил «амальгаму». Из двадцати обвиняемых, почти в полном составе отправленных на гильотину,
[33] только четверо — Эбер, Ронсен, Венсан и Моморо были подлинными вожаками ультра, ответственными за авантюру. Большинство других не имели к этому прямого отношения, а иные даже не знали как следует главных виновников. Так Анахарсис Клоотц, «оратор рода человеческого» и «личный враг господа бога», арестованный еще 8 нивоза, лишь 30 вантоза узнал, что судьба его связана с судьбой Эбера; привлечение Клоотца, бывшего прусского барона, равно как и Проли, Перейры, Кока, нужно было Фукье, чтобы придать заговору иностранную окраску… Не имея достаточных оснований для обвинения, члены Трибунала инкриминировали подсудимым помыслы и поступки, зачастую не имевшие к ним никакого отношения.
Просматривая сводки наблюдателей, Сен-Жюст заметил, что вынесение приговора и казнь осужденных привели многих санкюлотов в оцепенение. «Бесполезно вести разговоры, расспрашивать, задавать наводящие вопросы, — прочитал он в записке управления полиции, — все воздерживаются или отвечают неопределенно, — очевидно, боятся быть втянутыми в это дело». А наблюдатель Сулес констатировал 5 жерминаля: «Санкюлоты наблюдают друг за другом…»
Казалось, это должно было насторожить, но в то время Сен-Жюст не придал всему этому большого значения.
В дни, когда вожди ультра еще ждали суда, был задержан один небезызвестный человек, арест которого прошел почти незамеченным: 27 вантоза Сен-Жюст коротко и не очень внятно доложил Конвенту о взятии под стражу Эро де Сешеля.
Дантонист, связанный с эбертистами, скомпрометированный в переговорах с иностранными кругами, заподозренный в шпионаже, Эро ждал ареста с начала нивоза. Однако, отстранив от работы в Комитете, его тогда все же не тронули: был необходим достаточно веский предлог, который при этом не раскрыл бы тайн Комитета.
25 вантоза революционный комитет секции Лепельтье задержал некоего Катюса, обвинявшегося в связях с эмигрантами. Оказалось, что арестованный проживал на квартире Эро и исполнял обязанности его секретаря; мало того, при известии об этом аресте Эро в сопровождении депутата Симона отправился в кордегардию, где находился Катюс, и попросил свидания с ним. Свидание разрешили, но тотчас известили Комитет общей безопасности, который по закону, запрещавшему поддерживать отношения с эмигрантами и сохранять связь с заключенными, приказал задержать обоих народных представителей и отправить их в Люксембургскую тюрьму.
Между тем соратники Эро не скрывали бурной радости по случаю осуждения и казни соперников. Именно в эти дни Тальен, Бурдон и Делакруа возобновили атаки в Конвенте; нещадно пороча Бушотта как креатуру ультра, они добивались его ареста, в то время как Демулен, словно забыв о своей кампании «милосердия», аплодировал стуку гильотины 4 жерминаля. И только один из «снисходительных» не обнаруживал ни малейшей радости; это был вождь фракции Жорж Дантон.
Сен-Жюст внимательно наблюдал за поведением Дантона в Конвенте. Тот старался быть по-обычному шумным и держаться непринужденно, будто все происшедшее его не касалось. Он выступил даже в защиту Парижской Коммуны — приюта врагов умеренных. Сен-Жюсту казалось, что он понимает причину этого. Титан не мог радоваться гибели своих возможных союзников: отсечение одной из ветвей иностранного заговора влекло на эшафот и вторую. По-видимому, титан делал последние усилия, пытаясь сбросить навалившуюся глыбу.
Действительно, 29 вантоза, поднявшись на защиту Коммуны, Дантон выступал в Конвенте последний раз. Потом он замолчал.
О необходимости устранения Дантона первым сказал не Сен-Жюст.
Первым сказал Бийо-Варенн.
Это произошло ночью в Комитете, когда, уставшие до изнеможения и злые от усталости, они молча сидели в зале с колоннами. Каждый показывал, будто занят своим, но никто ничем не занимался, ибо позади был трудный день, а впереди ждал неприятный разговор, и каждый думал об одном и том же, о единственном, что волновало сегодня, думал, но не решался заговорить.
И тогда Бийо-Варенн, отбросив в сторону перо и отодвинув чистый лист, заметил:
— С ними нужно кончать.
Робеспьер не сразу и очень тихо спросил:
— О ком это ты, Бийо?
— А ты не понимаешь? — ухмыльнулся Бийо. — Я говорю о Дантоне и его прихвостне.
Робеспьер не поинтересовался, кто такой «прихвостень», он вскочил, очень бледный, и крикнул срывающимся голосом:
— Я не позволю трогать лучших патриотов!
— Это Дантон-то «лучший патриот»? — со скверной улыбкой спросил Бийо.
А Сен-Жюст сказал:
— Бийо прав. Их нужно устранить, или республика погибнет.
Ленде встал и побрел к двери.
— Полагаю, все мы слишком устали, — поднялся Карно. — Сейчас не время говорить о таких серьезных вещах. — И он тоже вышел.
— Крысы, — сказал Колло.
Робеспьер сел на место. Руки его дрожали.
— Выпей воды, — сказал Барер, услужливо пододвигая стакан.
— Я не позволю трогать лучших патриотов, — повторил Робеспьер, на этот раз тихим голосом.
С этого началось, и произошло это еще в вантозе. На одном из следующих заседаний Комитета Бийо вынул из кармана смятый листок и сказал:
— Казненные злодеи готовили свержение правительства. Подлый Эбер собирался, уничтожив комитеты, передать власть диктатору, «великому судье». Знаете, кого он прочил на этот пост?
— По-моему, Паша, — сказал Карно.
Бийо бросил на стол свой листок.
— Вот материал, взятый только что у Фукье. «Великим судьей» должен был стать не Паш, а Дантон. Недаром Дантон говорил при свидетелях: «Ну и люблю же я этого парня, Эбера».
Сен-Жюст ждал ответа Неподкупного. Но на этот раз Робеспьер не проронил ни слова.
— А знаешь, — сказал он Сен-Жюсту несколько дней спустя, — я виделся недавно с Дантоном. Встречу устроил твой друг Добиньи.
«Я всегда догадывался, что Вилен косит направо», — подумал Сен-Жюст. Подробности он узнал у самого Добиньи.
Встреча произошла у шефа бюро внешних сношений Эмбера, пригласившего, кроме двух бывших друзей, министра Дефорга, Лежандра и Паниса («Одни дантонисты», — отметил Сен-Жюст). В разговоре Панис заметил, что разногласия между двумя трибунами огорчают патриотов. Дантон, подхватив эту реплику, воскликнул, что не может понять равнодушия Робеспьера. Неподкупный промолчал. Тогда Дантон принялся бранить «двух шарлатанов, дурачащих Робеспьера» — Бийо и Сен-Жюста. «При твоей морали, — заметил Робеспьер, — никогда не оказалось бы виновных». — «А разве это было бы тебе неприятно? — возразил Дантон. — Надо прижать роялистов, но не смешивать виновного с невиновным». Робеспьер нахмурился: «А кто тебе сказал, что погиб хоть один невиновный?» После такого ответа Дантон притих. Кто-то предложил врагам расцеловаться и забыть старое. Дантон с готовностью подчинился. Робеспьер подставил щеку.
«Еще немного, и Максимильен будет готов», — подумал Сен-Жюст.
Он ошибался: Максимильен уже принял решение.
При всей своей проницательности, Сен-Жюст и не подозревал, что творилось в душе Робеспьера. Он не знал и не мог знать этого прежде всего потому, что вступил на стезю большой революционной политики сравнительно поздно, когда его великий друг уже прошел значительную часть этого пути: ведь в дни, когда он, Сен-Жюст, пожинал чахлые муниципальные лавры в своем Блеранкуре, Робеспьер, уже ставший Неподкупным, вместе с Дантоном и Демуленом заставлял трепетать конституционалистов и жирондистов, прокладывая дорогу к восстанию 10 августа, похоронившему монархию и власть либералов-роялистов. Слишком хорошо помнил Робеспьер революционное прошлое своих старых соратников, чтобы теперь быстро и безболезненно отречься от этой памяти. Он помнил Дантона, бушевавшего у Кордельеров, в ратуше в совете министров, Дантона, крушившего Байи и Лафайета, а позднее Ролана и Бюзо, великого Дантона, чей призыв «Необходима смелость, смелость и еще раз смелость» в сентябре 1792 года спас Францию. Еще лучше помнил он прежнего Камилла Демулена, к которому всегда испытывал слабость, того яркого и бесстрашного журналиста Демулена, что вместе с Маратом вызывал дикую ярость «черных», не раз угрожавших ему тюрьмой и расправой за пылкие воззвания и памфлеты в защиту свободы и равенства. И разве легко было забыть подобное ему, ветерану революционной борьбы, человеку железных принципов? Но именно верность принципам постепенно все больше отвращала Неподкупного от сегодняшних Дантона и Демулена, именно принципы заставили его в конце концов согласиться на жертву, которая поначалу казалась ему чрезмерной и невозможной. И дело здесь было вовсе не в том, что он знал о циничных шуточках, которыми за глаза щедро оделял его Дантон, и не в том, что на страницах «Старого кордельера» Демулен не жалел саркастических замечаний в его адрес; гораздо важней было, что на тех же страницах журналист наносил болезненные удары всем революционным властям: Комитету общественного спасения с его «чрезмерной властью», Комитету безопасности — «логову каиновых братьев», их агентам — «корсарам мостовых», наконец, Революционному правительству в целом, а Дантон явно провоцировал неустойчивого Камилла на подобные удары. Именно это, наряду со многим другим, показало Неподкупному, что революция далеко обогнала его бывших единоверцев, что они уже больше не желают, да и не способны понять смысл происходящего и сами исключают малейшую возможность для вызволения себя из трясины. Они звали к капитулянтскому миру с державами, к прекращению Революционного террора и немедленной ликвидации экономических ограничений, без которых республика не могла существовать и бить врагов, а стало быть, и сами они превращались во врагов, врагов коварных и беспощадных. Вот почему на ближайшем заседании Якобинского клуба Робеспьер произнес слова, которые подвели черту и не оставили ни малейших надежд для «снисходительных»:
— Если завтра же или даже сегодня не погибнет эта последняя клика, наши войска будут разбиты, ваши жены и дети умрут, республика распадется на части, а Париж будет удушен голодом. Все вы падете под ударами интервентов, грядущие же поколения будут страдать под гнетом тирании. Но я заявляю, что Конвент твердо решил спасти народ и уничтожить все клики, опасные для свободы…
Когда решение стало окончательным, Сен-Жюсту снова поручили доклад. Робеспьер выглядел мрачным и задумчивым. Сразу после заседания он сказал:
— Не уходи. Сначала зайдем ко мне.
У себя он открыл ящик стола и достал тетрадь.
— На, возьми, это тебе пригодится.
Сен-Жюст полистал тетрадь. Это были заметки, написанные аккуратным почерком Робеспьера. Все они касались Дантона, Демулена и их соратников. Антуан криво усмехнулся.
— Ну теперь я вижу, что тебя не надо подталкивать. Но ты ведь еще недавно величал их «лучшими патриотами»! Скажи, и на всех ты заводишь подобные досье? Вероятно, есть и на меня тоже?
Робеспьер был бледен до синевы.
— Твое остроумие неуместно. Я делал эти наброски для себя, стремясь проверить на бумаге мучившие меня сомнения. Поверь, если бы сомнения не подтвердились, ты никогда не увидел бы этой тетради. А что касается досье на тебя, то да, оно есть.
Снова выдвинув ящик, он достал листок и протянул Антуану. На листке сверху слева было написано: «Сен-Жюст». И ниже: «Чист. Предан. Огромные способности».
Сен-Жюст вспыхнул. Ему стало стыдно.
— Прости, ради бога, прости, — сказал он и обнял Максимильена. — Это вырвалось у меня от глупого ребячества. Я же знаю твою порядочность, честность, любовь к отчизне. Для меня ты всегда будешь ярким примером во всем…
Запершись в своем кабинете, он принялся внимательно читать. Отбросив все несущественное или благоприятное для дантонистов, усилил и заострил остальное. Он составлял доклад в течение ночи и дня; и уже кабинет представлялся ему не комнатой с лепными украшениями в стиле рококо, а римским форумом, и он видел гордых сенаторов в белых тогах и этого, главного, с наглой ухмылкой толстых губ. И он сам, в белой тоге, гордо выступил вперед и, вперив холодный взгляд в толстогубого, громким голосом воскликнул:
— Quo-usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?..
[34]
…Сен-Жюст очнулся. Комната была как комната, с лепными украшениями в стиле рококо, и не было ни сенаторов, ни Катилины, и сам он был не Цицероном, разящим противника блистательными экспромтами, а жалким мальчишкой с глухим голосом, читающим все свои речи с листа…
Он сжал кулаки до боли. Нет, что бы там ни было, он сделает все именно так. Он бросит свою обличительную речь прямо в лицо тому, толстогубому Катилине, он раздавит его логикой мысли…
Перерабатывая доклад, Сен-Жюст написал его как речь, обращенную ко второму лицу, рассчитывая прочесть его в Конвенте, в присутствии Дантона.
Вечером 10 жерминаля собрались оба Комитета. Настроение было мрачно-торжественное: все знали, что сегодня произойдет нечто решающее.
Сен-Жюст с воодушевлением прочитал доклад. Его нашли превосходным и по стилю, и по содержанию; никто не сделал ни единого упрека, не предложил ни единой поправки.
— Только никак не пойму одного, — сказал вдруг Вадье, — почему ты читаешь, словно обращаясь к Дантону?
— Чего же здесь понимать? Я и обращаюсь к нему!
— Позволь, но ведь его не будет в Конвенте!
Сен-Жюст подскочил.
— То есть как это не будет?
— А так. Сейчас мы подпишем ордер, и преступники этой же ночью будут арестованы.
Сен-Жюст в полном недоумении оглядел присутствующих.
— Кто это решил? — спросил он срывающимся голосом.
— Все мы, — спокойно ответил Бийо-Варенн. — Это — наше общее решение, принятое за пять минут до твоего прихода.
— Но почему же? — чуть не с отчаянием воскликнул Сен-Жюст.
Бийо улыбнулся.
— Сейчас все тебе объясню, коллега. Это — слишком серьезное дело, и рисковать мы не можем. Дантон — не папаша Дюшен; он депутат, глава клики. И потом, не забывай: разве можно сравнивать твою и его ораторскую манеру? Не обижайся, Сен-Жюст, ты написал прекрасный доклад, и мы это оценили. Но ведь у тебя слабый голос, и ты читаешь по написанному от первого до последнего слова. А этот злодей обладает голосищем, перекрывающим пушечные залпы, да и за словом в карман не лезет; ты же знаешь, он не пишет своих речей, а придумывает на ходу и всегда бьет насмерть. Вот и представь: если начнется словесная дуэль и ты в ней проиграешь, а проиграешь ты наверняка, то наша песенка спета: он поднимет мятеж в Конвенте, и все мы будем перерезаны!
— Бийо прав, — задумчиво произнес Робеспьер, — рисковать нельзя.
Все поплыло перед глазами Антуана. Он медленно поднялся, скатал в трубку свой доклад и швырнул его в камин.
Все вскочили. Амар изловчился и выхватил рукопись прежде, чем ее объяло пламя…
…В конце концов он уступил. Уступил, но с болью, и тяжелый осадок остался…
Поздно вечером, когда все успокоились, был составлен приказ, написанный на обрывке старого конверта, приказ, решивший дальнейшую судьбу фракции «снисходительных». Он был скреплен восемнадцатью подписями. Отказались дать визу лишь двое: Робер Ленде и старик Рюль из Комитета безопасности.
В шесть утра 11 жерминаля Дантон, Демулен, Филиппо и Делакруа были арестованы и отправлены в Люксембургскую тюрьму, где уже находились группа Шабо и Эро де Сешель с Симоном.
Но если в деле Эбера все кончалось с задержанием вожаков фракции, то в деле Дантона арест становился началом жестокой борьбы: децимвиры ожидали ее и ожидания их не были обмануты.
25
Новость быстро облетела столицу: утром люди обсуждали невероятное событие. Как было поверить, что революция подняла руку на Демулена, «человека 14 июля»,
[35] и на Дантона, «человека 10 августа»?..
[36]
Децимвиры, не сомкнувшие глаз в эту ночь, просматривали первые донесения наблюдателей, когда пристав Конвента сообщил, что депутаты требуют их присутствия.
Робеспьер, Сен-Жюст и остальные прошли в малый салон за креслом председателя и в изумлении остановились.
Конвент гудел. С одной стороны раздавались свистки, с другой — рукоплескания. Выступал Лежандр, друг Дантона.
— Граждане, — воскликнул он с волнением в голосе, — сегодня ночью арестованы четверо депутатов. Один из них Дантон. Имен других я не знаю… Но я предлагаю вызвать этих людей сюда, и мы сами обвиним или оправдаем их. Что до Дантона, то я верю: он так же чист, как и я!..
Депутат Файо попробовал оспорить предложение Лежандра. В ответ послышались угрозы; кто-то закричал: «Долой с трибуны!» В этот момент Робеспьер вошел в зал. Немедленно раздались выкрики:
— Долой диктаторов! Долой тиранов!..
Спокойно поднявшись на трибуну, Робеспьер сказал:
— По царящему здесь смущению легко заметить, что дело идет о крупном интересе, о выяснении того, одержат ли несколько человек верх над отечеством.
Дождавшись тишины, он продолжал:
— Лежандр, по-видимому, не знает имен арестованных, но весь Конвент знает их… Он упомянул о Дантоне, думая, будто с этим именем связана какая-то привилегия. Нет, мы не хотим привилегий, нам не надо кумиров. Сегодня мы увидим, сумеет ли Конвент разбить мнимый, давно сгнивший кумир, или же тот, падая, раздавит Конвент и французский народ…
Пока Робеспьер говорил, Сен-Жюст, вынув из кармана пахнущие дымом листки, еще раз просмотрел их. Потом вышел из своего укрытия и медленно направился к трибуне.
— Люди низменные и преступные, — заканчивал Робеспьер, — боятся падения себе подобных, ибо, теряя щит, прикрывающий их, становятся более доступными для опасности; но если в этом Собрании есть низкие души, то есть здесь и души героические, ибо решаете вы судьбы земли.
Наступило время Сен-Жюста, и он спокойно начал.
— Я пришел просить правосудия от имени родины против людей, давно изменивших народному делу, которые тайно вели против нас войну в союзе со всеми заговорщиками, от герцога Орлеанского и Бриссо до Эбера, Эро и их приспешников…
Нет, зря, право же зря боялись децимвиры, что он не осилит Дантона. С блистательным мастерством ритора, с глубокой убежденностью непреклонного стража справедливости, с тонким чутьем сердцеведа, знающего слабости слушателей и умеющего неопределенность нападок компенсировать энергичной сжатостью выражений и беспредельной уверенностью в своей правоте, построил он речь. Он рассказал потрясенному Конвенту историю движения, бывшего, по его словам, цепью измен, подлой корысти, адских умыслов, стимулируемых подпольным вмешательством иноземцев. Лишь мимоходом задев Демулена и Филиппо, «жалких людей», слепые орудия интригана Фабра, он перешел к Дантону, которому посвятил две трети доклада. Он не стал ничего менять; как и было задумано, он обращался прямо к Дантону, и удивленные депутаты невольно оглядывались, ища глазами арестованного трибуна…
— Дантон, — воскликнул оратор, — ты вечно служил тирании!..
Медленно разворачивая мрачную картину предательств, оживляя не только дела, но и фразы и даже жесты Дантона, Сен-Жюст показал его тайные связи с монархией, ставшие основой внезапного обогащения, грязную игру с Дюмурье и жирондистами, двусмысленное поведение в моменты кризисов кануна 10 августа, 31 мая, 2 июня; он не забыл напомнить выпады обвиняемого против Марата, не забыл упрекнуть его за недавнюю кампанию «милосердия», выявив исток всего этого — дружбу с подозрительными иностранцами. Особенно резко заклеймил он оппортунизм Дантона и его постоянное лицемерие:
— Как банальный примиритель, ты все свои речи начинал громовым треском, а заканчивал сделкой между правдой и ложью; ты ко всему приспособлялся!.. Как дурной гражданин, ты злоумышлял; как фальшивый друг, публично порицал пороки Демулена, погубленного тобой; как испорченный человек, ты сравнивал общественное мнение с проституткой; ты утверждал, что честь смешна, что слава и потомство — глупость. Эти максимы роднят тебя с аристократами, это воззрения Катилины. Коли Фабр невиновен, если были неповинны герцог Орлеанский и Дюмурье, — что ж, значит, нет вины и за тобою. Я сказал более чем достаточно; ты ответишь перед судом…
Эта напористая, необыкновенно динамичная речь, словно бичом хлеставшая по депутатским скамьям, вызвала общее оцепенение; его еще усилили заключительные слова оратора:
— Дни преступления миновали; горе тем, кто стал бы поддерживать его! Политика преступников разоблачена; да погибнут все, бывшие преступными! Республику создают не слабостью, но свирепо строгими, непреклонно строгими мерами против повинных в измене!..
Ошеломленное Собрание секунду молчало. Потом опомнилось: раздались аплодисменты, которые, нарастая, охватили весь зал. Единодушно Конвент принял предложенный докладчиком декрет и выдал потребованные головы. Лежандр поспешил извиниться…
От ареста Эбера до начала суда над ультра прошла ровно неделя; от ареста Дантона до слушания дела «умеренных» — только два дня. Правительство боялось малейшей оттяжки; однако к началу суда децимвиры
поспешили провести реформы, которые усилили бы их власть. Считая, что министерства мешают эффективной деятельности комитетов, тем более что военный министр Бушотт был скомпрометирован близостью к эбертистам, а министр иностранных дел Дефорг — к дантонистам, Конвент 12 жерминаля упразднил министерства, заменил их исполнительными комиссиями — послушными орудиями Комитета общественного спасения. Дефорг, а позднее и Бушотт, потерявшие свои должности, были арестованы.
В ночь на 13 жерминаля Дантона и других перевели в Консьержери. Утром наблюдатели доставили первые сводки о поведении заключенных. Демулен, переходя о надежды к отчаянию, писал послания своей Люсили, орошая их слезами; Делакруа молчал; Фабр, казалось, был больше всего занят судьбой своей новой пьесы; Дантон без умолку ругался и каламбурил, и голос его был слышен во всех соседних камерах. «Все равно один конец, — рычал он. — Бриссо бы гильотинировал меня не хуже, чем Робеспьер… Если бы я мог оставить свои ноги Кутону, а свою мужскую мощь (Дантон выразился сильнее) Робеспьеру, дело бы еще шло кое-как…» Он предвидел отношение санкюлотов к своему концу: «Зверье! Они будут кричать „Да здравствует республика!“, когда меня повезут на гильотину…»
Прокурор Фукье-Тенвиль быстро подготовил обвинительный акт и назначил открытие процесса на полдень того же 13 жерминаля.
Процесс дантонистов, как процесс политический, казалось бы, не отличался от дела Эбера: судьба обвиняемых была решена заранее и приговор им определялся самим фактом ареста. Однако осудить дантонистов было значительно сложнее, чем эбертистов. Робеспьер, Сен-Жюст и их коллеги прекрасно понимали, что Дантон, Демулен и Фабр не были обычными подсудимыми; первый — старейший революционер и блестящий оратор, второй — остроумный памфлетист, один из ранних глашатаев свободы, третий — великий мастер политической интриги, они представлялись крайне опасными противниками, грозившими превратить судебные заседания в арену жестокой борьбы. Учитывая это, децимвиры взяли процесс под бдительное наблюдение и помогли прокурору составить очередную «амальгаму».
Центральную, политическую группу составили Дантон, Демулен, Филиппо, Эро, Делакруа и Фабр. Через Фабра их связали с мошенниками Шабо, Базиром и Делоне. Через Эро, конспирировавшего с Проли, их сблизили с эбертистами как одно из ответвлений «иностранного заговора». Наконец, именно с целью придать заговору «иностранную» окраску Дантона и Шабо объединили с иностранными банкирами — братьями Фрей, Дидерихсеном и Гузманом. Кроме того, на суде фигурировали аферист д’Эспаньяк, бывший администратор Парижского департамента Люлье, обвиненный в пособничестве Шабо, и генерал Вестерман, замешанный в интригах Дюмурье.
Процесс длился четыре дня. Четыре дня сидели члены обоих Комитетов в зале заседаний и, по существу, не занимались иными делами. Между Дворцом правосудия и Дворцом равенства непрерывно сновали приставы, курьеры, наблюдатели, приносившие отчеты о поведении судей и подсудимых и сводки о реакции публики.
Первый день, занятый делом Ост-Индской компании, прошел спокойно. Но зато день второй, 14 жерминаля, чуть не привел к полному срыву процесса. Членов правительства осведомили, что Дантон, получив слово, вложил в свою речь всю ярость и силу, на какие был способен. Он бахвалился, насмехался, дерзил, угрожал. Он призывал Сен-Жюста «к ответу перед потомством за клевету против лучшего друга народа и самого пламенного его защитника». Тщетно председатель Эрман пытался его остановить: голос Дантона перекрывал звон колокольчика и будоражил толпу на улице.
— Фукье и Эрман — изменники, — решил Бийо. — Ведь Фукье — родственник Демулена, получивший место по его протекции.
— Чего же церемониться с ними? — подхватил Колло.
Вызвали Анрио и приказали ему немедленно арестовать председателя суда и прокурора. Но тут в зал вошли Робеспьер и Сен-Жюст.
— Куда это помчался Анрио? — спросил Неподкупный.
— Арестовывать подлых Фукье и Эрмана, — ответил Колло.
— Вы безумцы! — воскликнул Сен-Жюст. — Арестовать состав суда в ходе процесса — значит дезорганизовать процесс и помочь негодяям. Вы не отдаете себе отчета в том, что делаете!
Колло гневно сверкнул глазами, но промолчал. Остальные согласились с Сен-Жюстом. Анрио вернули. Более того, несколько членов Комитета безопасности во главе с Вадье отправились в Трибунал — поддержать своим присутствием прокурора и судей.
Положение было спасено тем, что Дантон, вложивший слишком много энергии в свою речь, стал терять голос. Эрман предложил ему отдохнуть, обещая потом вновь дать слово, и утомленный трибун на это согласился.
Поздно вечером во Дворец равенства явился встревоженный Фукье.
— Что там еще случилось? — рявкнул Колло.
— Граждане, я не знаю, как быть. Подсудимые требуют вызова своих свидетелей, а это Ленде, Лежандр, Панис, Куртуа и многие другие, все — сторонники или друзья заговорщиков.
— Разве ты забыл? — сдерживая ярость, ответил Бийо. — Мы ведь предвидели подобную коллизию и категорически запретили тебе идти на поводу у заговорщиков. Вызывать этих лиц — значит ставить под угрозу существование республики!
— Я знаю, — робко сказал Фукье, — но они требуют…
— «Требуют»… — передразнил Бийо. — Нужно заткнуть им глотку, а как это сделать — твоя забота.
— Ты ведь, кажется, состоишь в родстве с Демуленом? — спросил Сен-Жюст.
Фукье побледнел.
— Уж какое там родство, гражданин…
— Но ведь во время процесса изменника Эбера ты же не ратовал за свидетелей защиты? — продолжал Сен-Жюст.
Фукье ничего не ответил, только низко опустил голову.
— Хорошо, — заключил Сен-Жюст. — Надеюсь, ты все понял. Иди.
Третий день процесса, 15 жерминаля, начался еще большими осложнениями. Дантон, уловив какую-то долю симпатии публики, вел себя необыкновенно вызывающе. Он громил правительство, особенно нападая на Робеспьера и Сен-Жюста, превозносил свои заслуги и требовал вызова членов Конвента — свидетелей защиты. Когда Фукье ответил отказом, он стал прямо обращаться к зрителям, аплодировавшим некоторым из его выпадов.
— Друзья, — крикнул он, — вы видите, что здесь происходит. Бегите в Конвент, добивайтесь, чтобы прислали наших свидетелей!..
Обескураженный Фукье написал в Конвент, умоляя о помощи. И помощь не замедлила прибыть.
За несколько минут до этого в правительственные комитеты поступило заявление от арестанта Люксембургской тюрьмы Лафлота. Он сообщал о заговоре, во главе которого находился генерал Диллон, старый приятель семьи Демулен. Заговорщики поставили целью разгромить тюрьму, спасти дантонистов и захватить власть. Выяснилось, что заговорщиков субсидировала Люсиль Демулен, переславшая Диллону в тюрьму тысячу экю…
Сен-Жюст немедленно отправился в Конвент.
Он сказал:
— Прокурор Революционного трибунала сообщил, что из-за возмущения подсудимых пришлось приостановить судебные прения…
Затем, рассказав о заявлении Лафлота, он предложил проект декрета: «Конвент постановляет, что всякий обвиняемый в заговоре, оказавший сопротивление или наносивший оскорбления национальному правосудию, будет немедленно устранен от участия в судоговорении».
Конвент утвердил декрет.
Члены Комитета общей безопасности Амар и Вулан поспешили доставить оба документа в Трибунал. Вручая их Фукье, Вулан сказал:
— Наконец-то злодеи в наших руках…
— Это именно то, что нам нужно, — ответил прокурор.
Когда донос Лафлота и декрет были оглашены, подсудимые стали протестовать. Камилл крикнул душераздирающим голосом:
— Подлые злодеи! Им мало, что они убивают меня; они хотят убить и мою жену! — Он разорвал в клочки свою защитную речь и швырнул их в лицо Фукье.
Дантон, указывая на Амара и Вулана, с гневом воскликнул:
— Эти мерзкие шпионы не дадут нам покоя до самой смерти!
Тогда председатель Эрман, применяя декрет, закрыл заседание.
Поздно вечером, просматривая отчеты об этом дне, Сен-Жюст и Робеспьер, дойдя до выкрика Демулена, переглянулись.
— Он верно понял, что ее ожидает, — сказал Сен-Жюст.
Робеспьер вздохнул.
— Бедная Люсиль, такая обаятельная женщина и такая верная жена… Как ты думаешь, нельзя ли ее спасти?
— Это исключено, — отрезал Сен-Жюст. — Любая попытка такого рода, учитывая настроения Бийо и других, привела бы нас к гибели.
— А пока погибнут они, — задумчиво сказал Робеспьер.
Сен-Жюст ничего не ответил.
На следующий день прения не возобновили. Протесты подсудимых привели лишь к тому, что их выдворили из зала суда. Через некоторое время секретарь вызвал их в канцелярию и сообщил единодушный вотум присяжных: все, за исключением Люлье,
[37] присуждались к смерти.
Они были казнены в тот же день, 16 жерминаля.
Передавали их последние слова на пути к гильотине.
— Народ, тебя обманывают! — кричал Демулен, пытаясь возбудить сострадание толпы. — Убивают твоих лучших защитников!..
Дантон пытался урезонить друга:
— Успокойся и оставь эту подлую сволочь!..
Когда телеги смертников проезжали по улице Сент-Оноре, Дантон посмотрел на закрытые ставни дома Дюпле и громко крикнул:
— Робеспьер, я жду тебя! Ты скоро последуешь за мной!..
Сен-Жюст полагал, что слова эти не улучшили настроения Неподкупного, хотя в целом его друг, как и он сам, был вполне удовлетворен исходом этого длительного и трудного дела.
Впрочем, дело еще полностью не закончилось: процессы Дантона и Эбера имели продолжение.
24 жерминаля на гильотину отправились Люсиль Демулен, генерал Диллон и другие обвиненные в «тюремном заговоре». На эшафот взошла также вдова Эбера, бывший парижский епископ Гобель, одним из первых вступивший на путь «дехристианизации», и бывший прокурор Парижской коммуны «Анаксагор» Шометт.
Хотя Сен-Жюст ничего не имел против Шометта и хотя Шометт осудил попытку эбертистской авантюры, вследствие чего он даже не фигурировал на процессе ультра, судьба его была также решена, поскольку децимвиры опасались чрезмерной автономизации Коммуны.
Так закончился жерминаль, месяц прорастания семян, давший столь обильную кровавую жатву. Теперь, когда все осталось позади, многие спрашивали себя: в чем же состояла подлинная вина перед революцией десятков революционеров, чьи головы скатились под ножом гильотины?
Сен-Жюст, сыгравший главную роль в ликвидации фракций, не испытывал подобных сомнений. Видя перед собой гигантский заговор и решив его до конца раскрыть и уничтожить, он, продолжая свое расследование, находил все новые факты, которые убеждали его в правильности первоначальной догадки.
И эта растущая уверенность, поистине железная непоколебимость, с которой он продолжал идти раз намеченным курсом, поражала коллег Сен-Жюста, все выше поднимала его авторитет, открывая сверкающую вершину власти.
26
Впрочем, о власти он думал меньше всего. Именно в это время он создал для себя образ истинного революционера, образ родился через отрицание: чтобы постичь его, Сен-Жюст должен был отринуть, уничтожить тип псевдореволюционера, воплощенный в Эбере и Дантоне.
Эбер был разным в Клубе и дома: с трибуны он громил богачей, а дома кутил с банкирами, с трибуны превозносил санкюлотов, а дома называл их кретинами; подручный Эбера Ронсен наводил ужас на собственников, а сам жил во дворце, имел 40 лошадей и ужинал с аристократами; Дантон слыл революционером, но занимался казнокрадством, окружал себя роскошью и проводил ночи в разврате.
Разве таким должен быть истинный революционер? Такого ли брать за образец? Нет, надо следовать другим примерам. Низвергая лжетрибунов, Сен-Жюст воскрешал в памяти сердца трибунов подлинных, великих революционеров, которым предстояло остаться в веках и которые для него воплощали высшую правду жизни, идеалы добродетели, справедливости, любви к республике и народу. Подобными революционерами были Руссо и Марат; первый провозгласил идеи революции, второй отдал жизнь за них.
Разве походили Руссо и Марат на Эбера и Дантона? Они были высокопринципиальны и бескорыстны; Руссо в дни бедствий отринул королевские милости, а Марат оставил после себя ассигнацию в 25 су — в этом заключалось его состояние. Руссо был резок с сильными и мягок со слабыми, он не знал, что такое чванство и наглость. Марат был беспощаден к врагам народа и милостив к беднякам, с которыми делился последним.
Именно таким должен быть настоящий революционер. Он человек непоколебимый, но чувствительный; радушный и простой без ложной скромности; он непреклонный враг лицемерия, обмана, благодушия, снисходительности; трудясь на благо своего народа, он желает добра всем народам мира; он никогда не подвергает критике революцию, не заставляет ее доходить до крайности, но разъясняет ее принципы и осуждает ее врагов. Подлинный революционер не стремится к власти, ибо для него власть воплощена в законе; он стоит вровень не с людьми сильными, а с людьми несчастными, защите которых посвящена его жизнь; быстрый и решительный в схватках с врагами, он преследует виновных и защищает невинных; он знает, что для упрочения революции нужно, чтобы все стали настолько же добрыми, насколько злыми были раньше, ибо добродетель не ухищрение разума, а свойство сердца, доступное каждому.
Отбирая эти принципы, Сен-Жюст вдруг заметил некую странность, на первых порах ускользнувшую от него: он брал за образцы Марата и Руссо, но почему-то ни разу не вспомнил о том, кто недавно казался ему высшим мерилом добродетели, — о Неподкупном. Быть может, произошло это лишь потому, что Руссо и Марат мертвы и канонизированы, в то время как Робеспьер жив и канонизации не подлежит? Очень может быть. Но имелся здесь и другой, чуть уловимый оттенок.
Что греха таить, в последнее время между Сен-Жюстом и его прежним кумиром наметилось охлаждение. Нет, Антуан все так же любил Робеспьера, считая его своим самым близким другом, они не разошлись, они по-прежнему оставались соратниками, людьми одинаковых убеждений, единых взглядов на революцию и республику, но прежнему во всех важных случаях поддерживали друг друга в Конвенте и Комитете. И все же в их отношениях теперь не всегда была прежняя сердечность и простота.
Конечно, все это можно было объяснить и домашними делами. Ведь когда-то на вопрос Максимильена о сроках женитьбы он ответил: в вантозе или жерминале. Но вантоз давно прошел, и жерминаль был на исходе, и однажды Робеспьер спросил:
— Ну а как со свадьбой?
— Чьей? — прикинулся непонимающим Сен-Жюст.
— Твоей, естественно.
Сен-Жюст не ответил.
— Ты не понял моего вопроса? — холодно спросил Робеспьер.
— Понял, — нехотя ответил Сен-Жюст.
— Так в чем же дело?
Антуан в упор посмотрел на друга.
— Я ведь не спрашиваю, когда ты женишься на Элеоноре.
— А ты и не имеешь права задавать мне подобный вопрос.
— Это почему же?
— Да потому, что, в отличие от тебя, я не объявлял о помолвке.
Сен-Жюст пожал плечами. Конечно, учитывая пуризм Робеспьера, это не могло содействовать улучшению их отношений. И быть может, именно поэтому Неподкупный держался отчужденно.
Думать обо всем этом решительно не хотелось. И не это волновало. Антуан, который ничего не прощал никому, готов был многое простить Робеспьеру. Но его беспокоил кое-кто из нового окружения Неподкупного, и прежде всего аббат Сиейс.
Бертран Барер как-то заметил: «Аббата Сиейса нигде не видно, но он повсюду; он действует в подполье Ассамблеи и Комитета; он роет землю, направляет, будоражит, создает фракции и сталкивает их, а затем исчезает, чтобы воспользоваться результатами». Сказано было верно. И однако, Барер не знал того, что понял Антуан: «крот» Сиейс становился в чем-то советником Неподкупного, усиливая свое роковое влияние на него с каждым днем. Этот лилипут с лисьей физиономией со времени Учредительного собрания прочно сидел на скамьях правых. Вокруг него бушевали страсти, возвышались и низвергались партии, а он молча, с брезгливой гримасой на тонких губах демонстрировал безразличие к происходящему. А в это же самое время «крот» Сиейс рыл землю, рыл упорно, пока не добрался до правительства… Ни один официальный документ не засвидетельствовал его присутствия в Комитете общественного спасения, но он был там, вмешивался в политические распри и, по мнению некоторых, вскоре стал «человеком Робеспьера». И это особенно тревожило Антуана — не потому, что он ревновал, а потому, что боялся влияния этого скользкого человека, и еще потому, что, продолжая свое расследование об «иностранном заговоре», он уже накануне казни дантонистов ясно понял, что им с Робеспьером снова необходимо установить полное взаимное согласие и действовать совместно, иначе плоды всех их усилий могут пропасть даром.
Даже более непредвзятому наблюдателю, чем Сен-Жюст, должно было броситься в глаза странное обстоятельство. Вскоре после жерминальских процессов Комитет общей безопасности направил Фукье-Тенвилю довольно своеобразный приказ: «Комитет предлагает тебе удвоить усилия в розыске подлого Батца…» И далее следовало длинное перечисление всех козней барона, после чего прокурору давались «добрые советы» и высказывались пожелания: «Не пренебрегай при допросах малейшими сведениями; щедро обещай от нашего имени деньги и свободу любому заключенному, могущему найти его живого или мертвого; повторяй всем, что он вне закона, что голова его оценена, что он окружен и все равно не спасется, но при этом не будет пощады никому, кто знал о его местопребывании и умолчал об этом. Все это свидетельствует тебе, что мы желаем любой ценой получить злодея и что Комитет полностью рассчитывает на тебя». Приказ был подписан Вадье, Амаром, Вуланом, Жаго и Лакостом. Можно представить, в какое смятение привел этот документ Фукье! Что до Сен-Жюста, то, узнав об этом, он только улыбнулся. Могло показаться, что Комитет проявил удивительную рьяность; по мнению же Антуана, это была лишь неудачная попытка замести следы.
Действительно, почему члены Комитета вдруг вспомнили о Батце лишь после того, как все способные дать о нем показания — Шабо, Фабр, Базир, Делоне — были казнены? Ведь до этого барон никого не занимал, и Амар в своем вантозском докладе, вызвавшем резкую критику Робеспьера, назвал его даже Босом, продемонстрировав или полное незнание, или тонкое лицемерие. Ответить на этот вопрос было нелегко, но один факт казался симптоматичным. 23 жерминаля Фукье пожелал ознакомиться с бумагами Шабо, хранимыми в особняке братьев Фрей. На место были посланы уполномоченные Нис и Лапорт. Они проникли в особняк, овладели бумагами, драгоценностями и… скрылись. Расследование показало, что с ними был некто третий. Им мог оказаться только Батц или его доверенный агент.
Итак, снова Батц; Эбер и Дантон уничтожены, но иностранный заговор остался. Ходили слухи, что авантюра Ниса и Лапорта была инспирирована Эли Лакостом, боявшимся разоблачений в бумагах Шабо. Так ли это? Действительно ли Амар и Лакост были куплены Батцем? Во всяком случае, дело это пятнало Комитет безопасности в целом. В особенности если вспомнить его прежние грехи: непонятную снисходительность к пытавшимся спасти королеву, попустительство бегству Жюльена, главного сообщника Шабо, и многое другое. Естественно, теперь Комитет завопил о «злодее Батце» и потребовал у Фукье его задержания любыми средствами. Но что мог сделать Фукье? И почему Фукье, а не Комитет общей безопасности?..
Поступившись самолюбием, Сен-Жюст отправился к Робеспьеру.
Неподкупный долго молчал. Казалось, он взвешивал каждый факт, продумывал каждый аргумент Антуана. Наконец он сказал:
— Ты еще раз обнаружил свой недюжинный ум. И проницательность. И великий патриотизм. Мои наблюдения совпадают со сказанным тобою. У меня давно нет веры в этот Комитет. Мы добились его переизбрания, но это не уменьшило интриг. Что могут сделать Леба и Давид против оравы, захватившей огромную власть?
— Значит, власть эту нужно ликвидировать, — заметил Сен-Жюст.
— Убрать их невозможно, они составляют часть правительства, а новое переизбрание сейчас исключено.
— Согласен. Но именно сейчас их следует ограничить и взять под контроль.
— Каким образом?
— Ничего нет проще. Ведь Комитет ведает аппаратом государственного надзора, и в этом его сила.
— Бесспорно, но не вижу, куда ты клонишь.
— Сейчас увидишь. Что может нам помешать завести свой аппарат надзора? Скажем, организовать бюро общей полиции при нашем Комитете?
— Бюро общей полиции? — удивленно переспросил Робеспьер.
— Дело не в названии. Но когда подобное бюро будет создано, Комитету безопасности придется сильно потесниться. Мы изымем из его ведения все дела, которые будут того заслуживать…
— Готовь-ка доклад, — сказал Робеспьер после паузы.
— Доклад готов, — спокойно ответил Сен-Жюст.
Это был тонкий доклад. Он настораживал слушателей и в то же время успокаивал их. Оратор не скрыл, что и после разгрома фракций положение страны оставалось тяжелым: контрреволюция не была ликвидирована, иноземный враг по-прежнему угрожал, экономика была все так же далека от устойчивости. Выход один: мобилизация всех духовных и физических сил французов, единство всех слоев общества, заинтересованных в победе революции. Моральное единство Франции — необходимое условие для процветания страны, от него же зависит и международное положение республики: Европа пойдет на признание нового режима лишь в том случае, если он будет прочен, только тогда станет возможным заключение всеобщего мира, которого так жаждут повсюду.
Вот теперь наконец оратор переходит к вопросу, ради которого строилась эта преамбула; оказывается, в настоящих условиях успокоение и террор — две стороны единого целого, и, чем желаннее первое, тем более необходимо усилить второй; весь вопрос в том, чтобы террор был справедливым.
— Нет правительства, которое могло бы защищать права граждан без строгой полиции, — утверждает Сен-Жюст. — Но отличие свободного строя от деспотизма состоит в том, что в первом полицейские меры применяются к меньшинству, противящемуся общему благу, и к злоупотреблениям нерадивых служителей власти; а при деспотизме государственная полиция действует против большинства, против несчастных, страдающих от несправедливости и безнаказанности правительственных органов. В монархии свободны могущественные люди, а народ является рабом; в республике народ свободен, а все облеченные властью подчинены закону, долгу и идеалу суровой скромности…
Итак, революционный террор до победного конца. Конечно, когда будут организованы республиканские учреждения, все пойдет иначе. Но об этих учреждениях пока еще, кроме него, Сен-Жюста, никто и не думал, а у него слишком много других дел, мешающих заняться учреждениями… Последнюю фразу Антуан не произнес, она лишь мелькнула в его сознании, когда он дочитывал свой доклад. Вместо этого он сказал:
— Я кончаю провозглашением следующей незыблемой истины: общественные власти должны свято исполнять наши декреты!..
27 жерминаля по вчерашнему докладу Конвент принял большой декрет, состоявший из 24 параграфов. Этот «закон Сен-Жюста», четко учтя веяния времени, явился важным дополнением к декрету 14 фримера — «закону Робеспьера». Прежде всего он усилил и централизовал революционный террор. Отныне только Комитет общественного спасения обладал правом надзирать за органами власти и разбирать дела, касающиеся их злоупотреблений. Чтобы облегчить и ускорить судопроизводство, создавались особые «народные комиссии», обязанные рассматривать дела заключенных и составлять списки подлежащих суду Революционного трибунала. Провинциальные трибуналы, за редким исключением, упразднялись; все политические дела решались в Париже.
Вместе с тем «закон Сен-Жюста» стал первой ласточкой новой экономической политики Конвента, рассчитанной на приближение мирного времени и постепенное возрождение хозяйства страны. Право реквизиций местными властями резко ограничивалось; заключительный же, 24-й параграф гласил: «Комитет общественного спасения будет поддерживать посредством ссуд и премий работу фабрик и мануфактур, разработку приисков и осушение болот; он будет покровительствовать промышленности и поддерживать взаимное доверие между торговцами; он будет авансировать купцов-патриотов, доставляющих продукты по ценам максимума. Он гарантирует парижским купцам-импортерам неприкосновенность ввозимых ими товаров; он будет защищать свободу передвижения грузов внутри страны и не допустит никаких нарушений общественного доверия».
Закон 27 жерминаля был новой победой Сен-Жюста, завершившей борьбу жестокой и кровавой весны II года Республики. Конвент аплодировал выступлениям молодого децимвира, комитеты подчинились его авторитету, а образование Бюро общей полиции, во главе которого, естественно, оказался его создатель, обеспечивало высший государственный контроль.
Сен-Жюст завершил организацию Бюро в начале флореаля. Оно разместилось во втором этаже Дворца равенства. Руководство аппаратом Бюро, насчитывавшим до тридцати сотрудников, Антуан поручил своему товарищу, инвалиду войны Лежену. Роль секретаря исполнял другой инвалид — племянник домохозяина Робеспьера, Симон Дюпле, потерявший ногу при Вальми. В Бюро установилась строгая дисциплина с обязательным отбыванием присутственных часов. Чтобы не зависеть от Комитета общей безопасности, Сен-Жюст завел своих наблюдателей и агентов. Наконец, прочно обосновавшись и имея надежных помощников, он приступил к главному: стал отбирать из вéдения этого Комитета наиболее важные дела, с тем чтобы сосредоточить в новом Бюро главные проблемы революционного террора.
Только теперь старый Вадье и его коллеги начали понимать, чтó они упустили и как промахнулись; но изменить ничего уже было нельзя. О Сен-Жюсте уже начинали говорить как о «главе правительства» и возможном «диктаторе».
Но тут «диктатор» вдруг сделал поворот, которого никто не ожидал: 10 флореаля он передал Бюро Робеспьеру, а 11-го вместе с Леба укатил на фронт, в Северную армию. Увидев вершину власти, он отказался от восхождения.
27
Впоследствии, накануне 9 термидора, Сен-Жюст не раз спрашивал себя: почему он так поступил? Быть может, не сделай он этого, все бы пошло по-иному? Быть может, он, державший в руках все нити политики, не допустил бы просчетов, сделанных Робеспьером, и выровнял бы положение, прежде чем оно стало непоправимым? Но вся беда заключалась в том, что иначе поступить он не мог.
В Сен-Жюсте постоянно присутствовали два начала: авторитарное, свойственное его характеру, всему его внутреннему природному складу, и коллективистское, демократическое, порожденное литературой и революцией. Эти два начала сосуществовали, причем верх брало то одно, то другое; эгоизм ранней юности в начале революции сменился крайним альтруизмом, а затем, после падения Жиронды, в период смертельной опасности лета 1793 года, Антуан одним из первых понял необходимость диктатуры, которая могла спасти родину. Но диктатуру он, подобно Марату предсмертной поры, понимал исключительно как диктатуру коллективную — так родилась идея революционного правительства II года Республики. Борьба течений внутри Конвента, осложненная призраком «иностранного заговора», заставила Сен-Жюста стремиться к ограничению круга лиц, достойных находиться у кормила правления. Его невероятная энергия, твердость, с которой он сокрушил фракции, его умение вовремя принять нужную меру повысили его авторитет настолько, что оставался лишь шаг для перехода от коллективной диктатуры к диктатуре личной.
Но как раз подобный шаг Сен-Жюст был сделать не в силах, хотя и понимал, что, возможно, только таким путем он спас бы республику. Он не мог сделать этот шаг по соображениям принципиальным. Недаром именно теперь он создал для себя эталон подлинного революционера: личная диктатура, пусть кратковременная, пусть даже во имя спасения республики, перечеркнула бы многие из тезисов, которые он считал незыблемыми и которые собирался положить в основу своих «республиканских учреждений». Не мог он сделать этого и по соображениям этическим: не перешагнув через Робеспьера, нечего было и думать о руководстве страной, а перешагнуть через Робеспьера значило раздавить, втоптать в грязь все прежние идеалы, не говоря о дружбе. Сен-Жюст верил в дружбу. В его обществе будущего человек, не имеющий друзей, подлежал изгнанию. Как же мог он, с подобными убеждениями, предать Робеспьера?
И еще одно. Быть может, самое важное. В жерминале он возлагал большие надежды на моральное единство французов; в начале флореаля эти надежды стали таять.
Впрочем, вполне ли искренно надеялся Сен-Жюст на единство в жерминале? И если в своем последнем докладе он сделал упор на общенациональные интересы, то от хорошей ли жизни бросал призыв к «обеспеченным патриотам»? Ведь в вантозе он говорил о другом: его упования касались в первую очередь бедняков, обездоленных, подлинной «соли земли», и это не было минутным увлечением. Оно прошло через Эльзас, а зародилось много раньше, во время разработки проекта конституции. Подытоживая сводки наблюдателей в жерминале, Сен-Жюст видел, что и тогда было неблагополучно: однако, сокрушая фракции, он как бы закрыл глаза на остальное и не придал значения тому, что на первый взгляд стояло в стороне от эбертистов и дантонистов. Он, как и Робеспьер, долгое время пребывал в уверенности, что санкюлоты вытерпят все во имя успехов революционного правительства, созданного для их защиты. Но санкюлоты не желали терпеть. Они начали заявлять о своем праве на сносную жизнь. И словно бы стали терять доверие к революционному правительству. «Соль земли» не осталась в стороне от фракций — за это заблуждение теперь пришлось расплачиваться.
Все началось с того, что Парижская коммуна опубликовала давно подготовлявшиеся таблицы максимума. Новые цены оказались значительно более высокими, чем прежние. Это вызвало недовольство в столице. По словам наблюдателей, санкюлоты собирались группами на площадях и у лавок, громко выражая негодование и выкрикивая угрозы богачам, требуя снижения цен и более строгой регламентации. Комитет общей безопасности арестовал «коноводов». Одновременно правительство пошло на уступки: новый национальный агент Пейян 29 жерминаля объявил о нормировании продажи мяса; на мясо как ранее на хлеб, были введены специальные карточки. Но эта мера не удовлетворила санкюлотов. В Париже вспыхнули народные волнения, живо напомнившие Сен-Жюсту начало сентября 1793 года; 2 флореаля поднялись рабочие табачного производства, к ним присоединились подмастерья пекарей, затем портовые грузчики. По улицам шли манифестации, грозившие охватить всю столицу. Сотни рабочих осаждали Коммуну, требуя более строгого контроля над распределением продуктов и увеличения им работной платы. Пейян стал на точку зрения закона: манифестанты трактовались им как «контрреволюционеры», «наследники Эбера» и «агенты Питта». Дело было передано в новое Бюро общей полиции.
Сен-Жюста глубоко потрясло происшедшее. Человек твердый как сталь, он не сразу решился на крутые меры Конечно, с помощью солдат Анрио недовольных можно было бы легко смять и уничтожить. Но не означало бы это крах революции? Не слишком ли много «агентов Питта» и «наследников Эбера»? Не являются ли они значительной частью того «державного народа», во имя которого идет вся борьба внутри и вне республики?..
5 флореаля он написал на полях рапорта Бюро: «Необходимо выявить виновников скоплений и законность их требований. Установить причины беспорядков и воздать справедливость тем, кому следует». Отдав рапорт Лежену, он отправился к Неподкупному.
Неподкупный был чем-то сильно взволнован. Он перебросил Антуану один из листков, лежавших на столе. Сен-Жюст прочитал: «Накануне моего прибытия шесть замаскированных людей явились около половины десятого на дачу гражданина Гра, хорошего патриота, которого ты, должно быть, знаешь, схватили его близких, заперли их, а самого Гра отвели в погреб и расстреляли на глазах его маленького сына, которого заставили держать лампу…»
— Что это? — удивился Сен-Жюст.
— Письмо с юга. Мне передал его Пейян. — Лицо Неподкупного конвульсивно дергалось. — Всего лишь один из многочисленных примеров… А вот другой. Деревня Бедуен в департаменте Воклюз. Подлинный штаб мятежа. Здесь собираются роялисты и неприсягнувшие священники, подбивающие народ к свержению республики… Они состоят в переписке с эмигрантами и хранят белые кокарды…
Отложив письмо и уткнувшись неподвижным взглядом в стену, Робеспьер прошептал:
— Кругом организуются «черные банды», включающие и должностных лиц… Под шумок скупаются национальные имущества на фальшивые ассигнаты… Да это же новый федерализм!.. Юг кипит…
Сен-Жюст пожал плечами.
— Зачем так далеко ходить? Посмотри, что делается в Париже..
— Знаю, знаю. Всё происки контрреволюционеров. Их надо выжигать каленым железом.
Сен-Жюст с сомнением покачал головой.
— Одна ли здесь контрреволюция? Мне кажется, дело сложнее.
— Да, ты прав. Не скажу, что мы зашли в полный тупик, но с некоторых пор положение сильно осложнилось. Революция начала как бы топтаться на месте. Скажи, где энтузиазм прошлых лет? Где прежняя вера в незыблемость наших идей? Что мы видим сегодня? С одной стороны, рабью покорность, пресную «лояльность», верноподданническую лесть, с другой — интриги, тайную возню, подогреваемую иноземцами и ставящую целью погубить республику. Подумай, что получается. Внешне все обстоит прекрасно: республика крепка, фракции уничтожены, Конвент един, в ратуше патриоты, в армии преданные революции генералы и офицеры. Но к сожалению, это лишь оболочка; загляни вглубь и увидишь недовольство, ропот, вражду. И это повсеместно — не только на юге, но и на севере, да и здесь, в Париже. Недовольны все. Крестьяне злятся на реквизиции продовольствия и людей, рабочие протестуют против максимума заработной платы, собственники возмущены правительственной регламентацией, законами против скупщиков и спекулянтов. Мы обещали всем: в вантозе — рабочим и крестьянам, в жерминале — промышленникам и торговцам. И конечно же не только обещали. Но люди хотят большего. И как примирить рабочих с предпринимателями или крестьян-бедняков с богачами? Ведь, идя навстречу одним, неизбежно ухудшаешь положение других. И вот, используя всеобщее недовольство, не оживут ли вновь силы, которые дремлют, — остатки эбертистов и дантонистов? Не усилится ли вновь вмешательство иноземных «благодетелей» в жизнь республики?..
Сен-Жюст слушал с глубоким вниманием. Потом сказал:
— Меня беспокоят те же мысли; собственно, ими, и только ими, я занят несколько последних недель. И я твердо знаю одно: сейчас главное — покончить с врагом. Нужно перейти к наступлению на всех фронтах, очистить от противника все границы. Только одержав окончательную победу над иноземцами, победу, которая сплотит весь французский народ, можно приступать к коренным внутренним преобразованиям, иначе шпионы и диверсанты, различные батцы и псевдобатцы, будоража неустойчивых, все равно не дадут нам к ним подобраться…
На лице Робеспьера отразилось сомнение.
— Вот здесь-то, дорогой друг, — сказал он, — ты совершенно неправ: никогда внешние победы не решали внутренних затруднений; вспомни, на этом провалились жирондисты.
— Я думаю иначе, — ответил Сен-Жюст. — Впрочем, есть и другое средство — полное и беспощадное подавление всех врагов; для этого, правда, нужна личная диктатура.
— Это исключено! — с возмущением воскликнул Робеспьер.
— Я тоже так думаю. Но на этом мои предложения кончаются: я сделал их два и не вижу третьего.
Робеспьер посмотрел на Антуана со скрытым торжеством.
— А я вижу. Нужно найти нечто, способное заинтересовать всех, сплотить бедных с богатыми, соединить всю нацию. Это «нечто» может лежать лишь в области чистых идей: сила идеи колоссальна, она способна воодушевить, примирить с трудностями, заставить идти на жертвы. Но где такая идея? Пытались создать «культ Разума», но из этого ничего не вышло, затея лишь обозлила народ. Нет, нужно что-то совсем иное… Кстати, никогда не спрашивал тебя: веришь ли ты в бога?
Сен-Жюст вздрогнул: он не ждал такого вопроса. И правда, верил ли он в бога? Он не задумывался над этим, в своих прямых и косвенных действиях он никогда не искал поддержки потусторонних сил. Но он был верным учеником Руссо и, подобно савойскому викарию, признавал высшее духовное начало жизни.
— Я верю в провидение, — наконец сказал он.
— Вот и прекрасно. Я верил всегда, и эта вера спасала меня во времена тяжких испытаний, она давала мне силы устоять перед могущественными врагами…
Уже в дни Учредительного собрания, вызывая ропот и насмешки правых и левых, я твердо стоял на своем, я знал, что атеизм — удел аристократов, народу же нужен бог и культ… Нет, не «культ Разума» с его афоризмами вроде «смерть — вечный сон», а вера в справедливость и бессмертие души: что кроме надежды на бессмертие может утешить страждущего, ободрить угнетенного, вдохнуть силу в бьющегося с тираном?.. Вспомни изречение Вольтера: если бы бога не было, его следовало бы выдумать. Но нам нужен не бог старого порядка и не бог Вольтера. Вот посмотри, что должно нас вдохновлять.
Робеспьер взял открытую книгу, лежавшую на столе.
— Это «Общественный договор» Руссо. Прочти отчеркнутое место.
Сен-Жюст послушно прочитал:
— «Существует чисто гражданское исповедание веры, статьи которого надлежит установить не в качестве догм, а в качестве правил общежития… Они должны быть просты, немногочисленны, выражены точно… Сюда относятся: существование могущественного, умного, благотворящего, предусмотрительного и заботливого божества, будущая жизнь, счастье справедливых, кара для злых, святость общественного договора и законов…»
Робеспьер потирал руки. На лице его светилось торжество.
— Блестяще, лучше не скажешь. Я всегда утверждал: истиной является лишь то, что полезно в жизни и оправдано практикой. Идея верховного существа и бессмертия души вечно напоминает о справедливости; следовательно, идея эта имеет республиканский и общенародный характер: она способна сплотить добродетельных.
— А недобродетельных? — вяло поинтересовался Сен-Жюст.
— Недобродетельные будут уничтожены!
— Стало быть, «чистой идеей» ограничиться нельзя.
— Разумеется; добродетель и террор — две стороны единого целого. Идея верховного существа не исключает жестокой борьбы с врагом, напротив, подводит под нее твердую основу. Но я не вижу в тебе энтузиазма. Ты что же, не согласен с моим великим проектом?
— Как тебе сказать… Проект изложен весьма красноречиво. Но если уж говорить о практике… Практика истории показывает, что религия никогда не разрешала кризиса, в котором находилось общество. Язычество не спасло от падения греков и римлян; последних в равной мере не спасло и христианство… Максимильен, позволь задать тебе нескромный вопрос.
— Нескромных вопросов не люблю. Но так и быть, задай.
— Кто внушил тебе этот «великий проект»?
— Какая чепуха… Здесь было лишь веление сердца!
— Ну а если оставить красоты стиля? Уж не Сиейс ли?
— При чем тут Сиейс? — смутился Робеспьер. — Если он даже и говорил мне что-то в этом роде, то разве способен он так выразить эту идею?
— Хочу лишь предупредить: остерегайся Сиейса. Интуиция подсказывает мне: он предаст и тебя, и революцию. Но довольно об этом. Желаю от души, чтобы твой проект был осуществлен и принес пользу республике. Прощай!
— Постой, куда же ты?
— Мы обо всем переговорили.
— И ни о чем не договорились?
— Я не сказал этого. Но сейчас пора готовиться к отъезду. Пока ты будешь проводить свой проект здесь, постараюсь провести мой там, на фронте.
Робеспьер не ответил. На сей раз, вопреки обычному, он не открыл объятий другу.
28
Вот они наконец, знакомые, родные места; он все-таки увидел их. Здесь воздух чище, и кроны деревьев гуще, и трава, еще свежая, не выжженная летним солнцем, подобна зеленому ковру. Прежних забот как не бывало. На душе удивительно светло. И немного грустно: вспоминается ранняя юность, отец, мать, сестры… Так неужели он снова обойдет стороной город детства, не повидав старый дом, не прижав к сердцу тех, кого не видел вечность?..
12 флореаля они вчетвером — Сен-Жюста и Леба сопровождали верные Тюилье и Гато — прибыли в Нойон. Здесь, полагая, что на фронте все спокойно, Антуан выговорил себе сутки и поспешил в Блеранкур. Тюилье использовал это же время, чтобы навестить жену, жившую неподалеку от Нойона.
Было раннее утро. Городок спал. Сен-Жюст вихрем промчался по безлюдным улицам, выехал на окраину окинул взглядом поля, на границе которых стоял одинокий дом, привязал коня к штакетнику и тронул скрипучую калитку…
…Деда Антуан почти не помнил, но знал, что дед был простым крестьянином и только редкой бережливости да крепкой мужицкой смекалке оказался обязан тем, что «вышел в люди»: в зрелом возрасте он управлял доменами сеньора Бюа, в число которых входили поместья Морсан, Эври и Ришбур. Эту скромную должность дед передал отцу. Отца Антуан помнил хорошо: мальчику было десять лет в год смерти господина Жана Сен-Жюста. Да, отец был уже «господином», за свою многолетнюю безупречную службу в жандармерии короля он получил орден и маленькую ренту. Эта рента плюс сбережения, сделанные за время управления поместьями сеньора Бюа, позволили господину Сен-Жюсту на склоне лет, за несколько месяцев до кончины, купить этот дом на самой окраине Блеранкура, маленький дом на улице Шуетт, за которой начинались бескрайние поля… Именно тогда отец присоединил к своей фамилий добавку «де Ришбур» — по названию одного из поместий, которым некогда управлял; «Сен-Жюст де Ришбур» — это звучало совсем по-дворянски и выделяло господина Сен-Жюста из всей деревенской мелкоты, возвышая его над разными другими Сен-Жюстами, близкими и дальними родственниками, которых было достаточно в Пикардии. Антуан в годы юности также щеголял этой аристократической фамилией — Сен-Жюст де Ришбур. А отца он запомнил особенно хорошо в последний год жизни в Блеранкуре. Как был счастлив этот степенный, молчаливый, никогда не улыбавшийся человек, что имел наконец свой угол! Он любил копаться в своем огороде, бездумно бродить по
своему саду или же дремать с книгой в руках на скамейке у ручейка, протекавшего по границе его владений…
Где это все?.. Нет ни отца, ни огорода, ни скамейки, дом скособочился, а сад так зарос, что превратился в дебри…
Встреча получилась менее сердечной, чем можно было ждать; виной тому оказался он сам. Нет, разумеется, было все, что положено: и слезы, и объятия, и поцелуи; сестра Луиза, случайно оказавшаяся у матери, едва не молилась на своего великого брата, да и сама гражданка Сен-Жюст не отставала от нее. Но… Как объяснить противостояние, вдруг возникшее в нем, едва он увидел мать?..
Оставшись с ней наедине, Антуан тихо спросил:
— Ты можешь быть со мной абсолютно откровенной?
Мать вздрогнула и чуть побледнела.
— Неужели ты сомневаешься в этом, сынок?
— Тогда скажи: в юности, в Париже, я был заключен в исправительный дом по воле властей или по твоей просьбе?
— Какой странный вопрос задаешь ты мне…
— Ответь же на него.
Женщина опустила лицо на руки и тихо заплакала.
Теперь побледнел Сен-Жюст.
— Все ясно, — прошептал он.
Они долго сидели молча. Он не был расположен осушать ее слезы. Внутреннее противостояние усилилось: она не оправдывалась, он же не чувствовал нежности, даже снисходительности к этой пожилой расплывшейся женщине. Перед расставанием он все же спросил:
— Тебе нужны деньги?
Она пожала плечами. Помолчав, пробормотала чуть слышно:
— Сам знаешь, какие сейчас времена…
«Не желаешь просить, но и не отказываешься, — подумал Сен-Жюст. — Право же на тебя это непохоже… Но при чем здесь времена? Уж тебе-то, да и всем вам, живется неплохо; во всяком случае, гораздо лучше, чем мне». Направляясь сюда, он захватил свои небольшие сбережения, сэкономленные от депутатского жалованья.
— На, возьми. — Он протянул ей пачку ассигнаций.
Она поспешно убрала деньги в ящик секретера. Он следил за неловкими движениями ее чуть дрожавших рук. Потом поднялся.
— Как, уже уходишь? И не переночуешь даже?
Он обнял ее, рывком отстранил от себя и вышел…
…Всю боль от этой встречи и от своего бестолкового поведения он ощутил, когда был далеко от Блеранкура. О если бы можно было все вернуть! Ведь он же любил ее, свою бедную старую мать… И знал, что характер свой унаследовал от нее. Он должен был вести себя совсем иначе… Но вернуть уже ничего было нельзя. И вдруг он почувствовал с удручающей ясностью: ведь больше-то он уже ее не увидит, не увидит никогда…
О падении Ландреси они узнали 13-го, когда перебрались в Гиз. Известие это привело Сен-Жюста в страшную ярость. До сих пор кампания 1794 года шла с переменным успехом, но союзники не могли похвастать ни одной серьезной победой. Эльзасская эпопея осложнила австро-прусские отношения; герцог Брауншвейгский был заменен маршалом Меллендорфом, а Тугут начал прощупывать возможность мирных переговоров. Стремясь уберечь коалицию от развала, Питт давал щедрые субсидии союзникам, стимулируя активность их генералов. В конце жерминаля Кобургу удалось начать переброску войск в район между Шельдой и Самброй. Пишегрю, командующий Северной армией, начав контрнаступление, 11 флореаля взял Менен, важный пункт на правом фланге противника. Но Кобург в тот же день, приведя в действие свой сильный левый фланг, после жестокой бомбардировки вынудил к сдаче Ландреси — крупнейшую крепость всей линии обороны Северного фронта. Это открывало брешь в наиболее уязвимом месте: отсюда начиналась дорога на Гиз, Сен-Кантен, Ла-Фер и далее на Париж. Если бы австрийцы быстро сориентировались, они могли бы поставить под угрозу все успехи республики, — это понял Сен-Жюст, и именно это было причиной его ярого гнева, так испугавшего Леба. Но Филипп не подозревал, что друг его рассержен не столько фактом падения крепости, сколько общим положением на Северном фронте, которое они проглядели и во время своей прошлой инспекционной поездки, и сегодня; Сен-Жюст был зол на себя. Действительно, в плювиозе, занятый личными переживаниями, он сделал не все для обеспечения грядущей победы; сейчас же, потратив из личных видов целые сутки на поездку в Блеранкур, он слишком понадеялся на кажущееся затишье и не разглядел нависшей угрозы.
По сути дела, на Северном фронте имелись все те органические пороки, с которыми он и Леба боролись в Эльзасе: нехватка оружия и снаряжения, отсутствие дисциплины, бездарность генералов; Карно пренебрег всем этим и даже не представил четкого стратегического плана, отделавшись общими словами. Сен-Жюст отправил в столицу письмо, где дал волю своим чувствам. Время с 13 по 22 флореаля он провел в Гизе. Пока Гато и Тюилье занимались реквизициями в близлежащих районах, он и Леба налаживали дисциплину, проверяли командные кадры, организовывали военную юстицию.
Трудно было ему с Филиппом. Тот был предупредителен, заглядывал в глаза и… ждал. Беспрестанно ловя эти выжидающие взгляды, Антуан хотел крикнуть: «Ну чего ты так стараешься? Неужели не понимаешь?» Но он пересиливал себя и держался ровно, стремясь не оставаться с Филиппом наедине.
Однажды Леба прибежал в каком-то восторженном настроении.
— На, возьми, — он протянул нераспечатанное письмо. — Анриетта адресует тебе и мне… Прочти же скорее!..
Сен-Жюст вскрыл письмо, быстро пробежал его и вернул Филиппу:
— Ты ошибся, или ошиблась писавшая: здесь ничего нет для меня.
Филипп съежился, взял письмо и тихо вышел.
Сен-Жюст понял все: очевидно, друг его, ежедневно строчивший жене, настоял, чтобы Анриетта первой попыталась восстановить отношения. Гордая девушка сдалась, но лишь наполовину: она согласилась адресовать письмо им двоим, но не смогла выжать из себя ни слова, обращенного к неверному жениху…
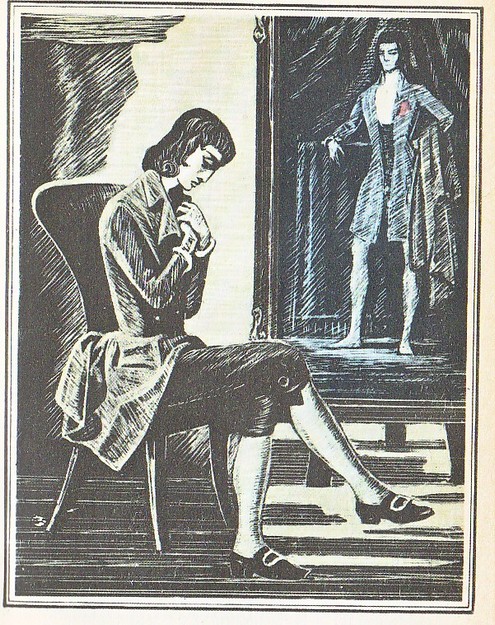
Декрет Конвента от 17 плювиоза, отдававший командование Северной армией Пишегрю, одновременно назначал комиссарами при нем депутатов Шудье и Ришара. Эти двое, последовав за Пишегрю в Лилль, занялись левым флангом армии, находившимся в Приморской Фландрии. Поскольку Сен-Жюст и Леба находились на правом фланге вдоль линии Камбре — Ландреси — Мобеж, им приходилось согласовывать свои действия с Шудье и Ришаром, что оказалось делом нелегким. Дантонист Шудье, ставленник Карно, считавшего операции в Приморской Фландрии решающими для всего фронта, постоянно притормаживал решительные меры Сен-Жюста и протестовал против его дисциплинарных акций.
Впрочем, и сам Карно, несмотря на свою спесь, понял сложность положения. В письме от имени Комитета он постарался сгладить острые углы и пообещал резервы: «Скажите Пишегрю, что через несколько дней в Бельгию прибудет Журдан с 25 или 30 тысячами бойцов…»
Журдан… Это имя Сен-Жюст прочитал не без удовольствия. И дело не только в том, что генерал был ему симпатичен и вызывал доверие; особенно приятным казалось, что о Журдане писал именно Карно, чем ставил крест на старой истории, при воспоминании о которой Сен-Жюст всегда испытывал удовольствие.
Начало истории уходило в прошлые осень и зиму. Блестящая победа при Ваттиньи, одержанная благодаря стратегии Карно и бесстрашию Журдана, не сблизила победителей: Карно не любил самонадеянных военачальников, ему показалось, что Журдан пренебрегает его приказами…
Сен-Жюст видел в Журдане блестящего полководца и не верил в его неповиновение. Не имея возможности сразу побороть сопротивление пяти децимвиров, подписавших приказ о его смещении и аресте, Сен-Жюст… спрятал Журдана! Понимая, что главное — выиграть время, он поместил генерала на квартире одного из своих друзей, а сам продолжал борьбу в Комитете за его спасение. 30 нивоза он одержал полупобеду: министр подписал приказ о высылке Журдана в Лимож. И вот сегодня победа становилась полной: Журдан был не только восстановлен в должности, не только командовал частями Мозельской армии, но именно эти части направлялись к Сен-Жюсту и Леба! Отныне Сен-Жюст мог располагать теми двумя полководцами, которым симпатизировал и верил: Пишегрю и Журданом.
Впрочем, Журдан был далеко, а с Пишегрю все складывалось иначе, нежели хотел Сен-Жюст. Этот эльзасский неудачник, назначенный командующим Северной армией благодаря Сен-Жюсту, ныне руководил военными операциями от Самбры до моря. На деле, однако, он не только не мог ими руководить, но даже не был в состоянии контролировать их; из своей главной квартиры в Лилле он едва управлялся с Приморской Фландрией, передоверив остальное другим генералам. Жерминальское наступление Кобурга, вбившее клин между Самброй и Шельдой, окончательно отрезало главнокомандующего от центра и правого фланга его армий. Все это ставило народных представителей в весьма трудные условия. Карно в Париже и Пишегрю в Лилле были слишком далеки от угрожаемых районов фронта; их распоряжения часто противоречили одно другому, были невыполнимы. Сен-Жюсту и Леба приходилось самим подбирать командный состав, намечать боевые операции и руководить их проведением.
Основа стратегического плана была ясна. Нужно было свести к минимуму последствия удара Кобурга, обеспечить плацдарм для контрнаступления и выйти на Брюссель. С этим предложением, выдвинутым Сен-Жюстом в ночь на 16 флореаля на военном совете в Камбре, были согласны все. Но дальше начинались разногласия. Автор плана считал, что главный удар должен быть нанесен на Самбре правым крылом республиканских армий; Пишегрю и его штаб, верные стратегии Карно, выдвигали на первое место левый фланг, полагая, что его действия определят победу. После горячих споров пришли к компромиссу. Было решено развивать наступление по всему фронту таким образом, чтобы начали оба фланга: левый — двигаясь на Ипр и Турне, правый — на Моне и Бинш; затем центр республиканских войск мог бы выйти на Като и Ле-Кенуа и легко овладеть этими пунктами, поскольку противник, боясь окружения, сам бы их покинул; это и обеспечило бы последующее общее движение войск на Брюссель.
План был хорош, но к концу совещания Сен-Жюст, уставший от бессонной ночи, допустил серьезный промах, которого долго не мог себе простить: при решении вопроса о численности каждой из ударных групп он пошел на поводу у Пишегрю. Главнокомандующий, исходя из предпосылки (оказавшейся неверной), что против него расположены основные силы врага, увеличил левый фланг до 80 тысяч бойцов; правый же фланг, которому предстояло действовать на Самбре, состоял из осколков Северной и Арденнской армий, в сумме едва насчитывавших 50 тысяч. Правда, его должны были усилить 30 тысяч бойцов Журдана, но время их прибытия продолжало оставаться неизвестным. Сен-Жюст не учел всего этого, и начались его неудачи на Самбре.
Нет, никогда еще в жизни он не испытывал подобных неудач. Между 21 флореаля и 15 прериаля правый фланг республиканских сил, сгруппировавшийся в районе Ханта и Туена, трижды переходил Самбру, трижды пытался укрепиться на левом ее берегу и трижды, отбрасываемый противником, возвращался на исходные рубежи.
Тщетно по приказу Сен-Жюста левый берег был выжжен дотла. Тщетно грозил он расстрелом за трусость и нерадивость. Тщетно производил перемещения в командовании, ставя во главе наступающих то Дежардена, то Шарбонье, то снова Дежардена.
Оставалось дожидаться Журдана. Но как раз накануне прибытия Журдана он получил это письмо…
Письмо было датировано 6 прериаля и подписано Робеспьером, Приером, Карно, Бийо-Варенном и Барером, но автором его явно был Максимильен: Сен-Жюст узнал его стиль и почерк.
В целом письмо было странным и непонятным. При чем здесь «толпы, желающие запастись маслом»? И что это за «повторяющиеся попытки покушений на членов Комитета»? И почему, наконец, присутствие Сен-Жюста в Париже столь необходимо, что его срывают с театра войны сейчас, в самый ответственный момент?.. Антуан знал — об этом твердили все газеты, — что 18 флореаля Неподкупный произнес в Конвенте речь о новой религии, на которую возлагал большие надежды. Значит, надежды не оправдались? Значит, прав был он, Сен-Жюст?..
Конечно, покидать Северный фронт сейчас, накануне решающих событий, крайне не хотелось. Тем не менее, понимая, что ослушаться воли Комитета нельзя, в надеясь, что на днях сюда прибудет Журдан, Сен-Жюст быстро собрался и вместе с Леба отправился в путь. В Париж он прибыл 12 прериаля.
29
Забежав домой, он тут же ринулся в Бюро полиции. Не отвечая на недоуменный вопрос Лежена, он взял его под руку.
— Ну рассказывай, что стряслось и почему я так нужен.
— Скоро придет Робеспьер… — начал было Лежен.
— Я спрашиваю не Робеспьера, а тебя.
Когда старый приятель говорил таким тоном, ему не следовало перечить. Лежен знал это и начал сбивчиво рассказывать. Положение в Париже оставалось тяжелым, мяса и масла не хватало, — строгая нормировка не решила проблемы. Речь Робеспьера 18 флореаля была восторженно принята Конвентом, но не успокоила народ. Упорно твердили о подготовке общего мятежа в тюрьмах.
А тут еще эти покушения…
Лежен достал из стола папку и протянул Антуану.
— Вот посмотри документы. Это копии допросов арестованных.
— Копии? А где оригиналы?
— В Комитете общей безопасности.
— На каком основании?
— Я же сказал, что Робеспьер лучше объяснит тебе все…
Сен-Жюст понял, что дальнейшие расспросы бесполезны, и погрузился в содержимое папки. Чем внимательнее вчитывался он в сухие показания протоколов, тем бóльшие сомнения одолевали его.
Оба факта произошли в течение суток. В ночь с 3 на 4 прериаля некий конторщик при национальной лотерее, по имени Амираль, дважды стрелял в Колло д’Эрбуа, не причинив, впрочем, депутату ни малейшего вреда. Амираль был задержан. Следствие установило: он жил в том же доме, что и Колло, а разрядил свои пистолеты ночью лишь потому, что не выполнил дневного задания. Днем он собирался убить Робеспьера, которого, однако, не нашел… На следующий день во двор дома Дюпле зашла молодая девушка, потребовавшая, чтобы ее проводили к Робеспьеру. Узнав, что его нет дома, она стала бурно возмущаться. Ее настойчивость и несдержанность в выражениях показались подозрительными; девушку арестовали и отправили в Комитет общей безопасности. При допросе выяснилось, что зовут ее Сесиль Рено и она дочь торговца бумагой; при ней оказались два небольших ножа, и она не отрицала своей ненависти к Робеспьеру и свою готовность идти на гильотину.
Эти два дела в одной папке чем-то поразили Сен-Жюста. Ему показалось, что в них есть что-то ущербное, искусственное. Чувствуя, что копии содержат не весь материал, он тут же отправился в Комитет общей безопасности.
Вадье долго рассматривал его изучающим взглядом, затем, несколько с опозданием, изобразил на лице улыбку и воскликнул:
— А, это ты, мы все тебя с нетерпением ожидаем.
— Будь добр, дай мне материалы по делу Амираля и Рено.
— Конечно, конечно… — засуетился Вадье. — Дайте-ка ему то, что он просит. Ну как там, на фронте? — не без ехидства спросил он, пока Вулан отыскивал бумаги.
— На фронте все как надо, — спокойно сказал Сен-Жюст. — Мне вот только непонятно, Вадье, почему вы занимаетесь делом, которое принадлежит компетенции моего Бюро?
— «Моего бюро», — передразнил Вадье. — Что значит «моего», «твоего»? Пока ты там «выковываешь победу», мы бдим здесь круглосуточно и спасаем республику…
Сен-Жюст, сидя за свободным столом, листал материалы. Сначала шло знакомое — те же протоколы допросов и показания свидетелей. Новое было в конце. На предпоследнем листе почерком Фукье было написано: «К дневному заседанию трибунала, 4 прериаля». А поверх этого, наискось, корявым почерком Амара: «Задержать в связи с новыми сведениями».
Сен-Жюст поднял глаза. Вадье, следивший за ним, сказал:
— Да, друг мой, не окажись мы на высоте положения, не прояви себя опытными сыщиками, злодеям с легкой руки Фукье отрубили бы головы и на том все кончилось. Но мы не поверили, что все так просто. Он не поверил, — Вадье указал на Амара. — Не поверил и стал искать новых свидетелей. Прочти-ка дальше.
Сен-Жюст перевернул страницу. Это был допрос свидетеля Ютвиля. Согласно его показаниям выходило, что Амираль дружил с неким Русселем. Бальтазар Руссель, проживавший на улице Гельвеция, принадлежал к ближайшему окружению барона де Батца…
Сен-Жюст вздрогнул.
— Понял наконец! — обрадовался Вадье. — Ну скажи, справилось бы твое бюро с подобным розыском? — И, не дожидаясь ответа, задал новый вопрос: — Обратил ли ты внимание на адрес Амираля?
— Конечно, поскольку он живет в одном доме с нашим коллегой. Дом номер 4 близ театра Фавара, на улице того же имени.
— Правильно. А случайно не запомнил адреса Сесили Рено?
— Я ведь дважды читал протоколы; угол улицы Лантерн, номер 36.
— У тебя профессиональная память. Так вот не скажешь ли, к какому району относятся эти адреса, включая адрес Русселя?
— Секция Лепельтье.
— Верно. А точнее?
Сен-Жюст задумался. Потом вдруг схватился за голову.
— Квартал Вивьенн… — чуть слышно прошептал он.
Все расхохотались.
— Дошло? — смеялся Вадье. — Сообразил наконец, что мы обнаружили подлинный заговор, о котором столько болтали, но по сути дела не знали ничего?.. Да, друг мой, мы открыли знаменитый заговор иностранцев, который больше года угрожает республике, заговор, возглавляемый бароном де Батцем!
— И поймали барона? — как-то кисло спросил Сен-Жюст.
— Злодей окружен, — подхватил Жаго, — и теперь ему не уйти.
Сен-Жюст чувствовал себя ошеломленным. И вместе с тем крутилась беспокойная мысль: здесь что-то не так. Концы с концами в чем-то не сходятся. Но в чем же?..
Механически он дочитал страницу. На ней больше не было ничего интересного. Но в самом конце мелким почерком Вадье было написано: «См. дело № 7521-бис».
Сен-Жюст вопросительно взглянул на Вадье.
— Дай ему дело номер 7521-бис, — усмехнулся тот.
Дело из рук Вулана немедленно перешло в руки Сен-Жюста. На обложке он прочитал: «Заговор иностранцев, именуемый заговором Батца. Начато 17 жерминаля II года Республики. Окончено…»
«Начато на следующий день после казни Дантона и Шабо, — подумал Сен-Жюст. — Любопытно, почему именно в этот день?»
Он открыл было папку, но тут же захлопнул ее.
— Так я не могу, — сказал он. — Мне нужно внимательно изучить это. Я возьму дело с собой.
— Разумеется, — заторопился Вадье. — Бери с собой, читай, изучай на досуге. Тем более что Робеспьер хочет сделать тебя докладчиком по этому вопросу…
«Меня? Докладчиком? — вспыхнуло в сознании Сен-Жюста. — Что за чертовщина! И ради этого он вызывал меня с фронта!..»
Он читал долго. День сменился сумерками, сумерки — темнотой. Он зажег лампу и продолжал читать, перечитывать, возвращаясь по нескольку раз к заложенным местам. Он ходил по комнате, обдумывал и снова погружался в чтение.
Постепенно факты начали связываться в цепочку. Он понял их последовательность и взаимозависимость. О, недаром тогда, вскоре после жерминальских казней, эти мастаки из Комитета общей безопасности выпустили обращение к Фукье, требуя любой ценой задержать Батца, обращение, которое тогда вызвало его улыбку: у них уже была подсадная утка — Арман. 3 жерминаля Арман оказался в кабинете Фукье, где давал показания о связях Паша и Эбера; впрочем, тогда прокурор не воспользовался этими показаниями. Потом, после казни дантонистов (почему, почему сразу после казни?) об этом человеке вдруг вспомнили.
Арман — игрок, грязный делец, провокатор; когда-то, еще при старом режиме, попался на деле о фальшивых деньгах; он выдал сообщников, чем спас себе жизнь. Познакомившись с Батцем, он поступил к нему на службу, потом изменил барону, как изменял всем своим работодателям и друзьям. В начале 1794 года Арман находился и тюрьме Форс; он был осужден на 20 лет. Именно тогда о нем и вспомнили в Комитете общей безопасности… После 17 жерминаля им занялись Амар и Жаго. По их приказу полицейский агент Доссонвиль заставил Армана «расколоться» и выдать все, что он знал о ближайшем окружении Батца: его камердинере, квартирной хозяйке и некоторых второстепенных личностях, использованных бароном. Затем Доссонвиль «протащил» Армана по парижским тюрьмам, где этот молодчик опознавал одного за другим всех своих старых знакомых, связанных прямо или косвенно с неуловимым бароном. Это, впрочем, ни качеством, ни числом не удовлетворило Жаго и Амара. Тогда Доссонвиль представил Арману список арестованных «бывших», находившихся в тюрьмах Парижа по разному поводу и некогда обитавших в квартале Вивьенн или близ него; Арман, готовый на все, охотно указал на них как на «сообщников Батца». Все это вместе давало внушительную картину. А тут подоспели и «покушения»: Комитет общей безопасности арестовал Амираля, всех его друзей, знакомых и случайно связанных с ним лиц, в том числе Русселя, бывшего компаньона Батца, затем Сесиль Рено и всю ее семью — отца и двух братьев, одного из которых вызвали из армии; все они, как уже знал Сен-Жюст, также обитали в квартале Вивьенн, там, где некогда страшный барон в сообществе с Гишем основал свое «Общество страхования жизни»…
Все это выстроилось в ряд, и от этого ряда несло какой-то фальшью, чем-то неуловимо подлым и лживым, но чем?.. Он думал до головной боли, до изнеможения, пытаясь схватить ту ниточку, которая привела бы к уразумению сути дела…
Казалось бы, все правильно: барон и его окружение, квартал Вивьенн и улица Вивьенн, где помещалось бюро «Общества страхования жизни».
Улица Вивьенн, улица Вивьенн… Стоп!
Сен-Жюст потер виски и судорожно глотнул воздух. Неужели ухватил? Да, как будто… Только бы не потерять…
Он взял перо и разделил надвое чистый лист бумаги.
Квартал Вивьенн, улица Вивьенн — здесь помещалось «Общество страхования жизни», которым владели Батц и Гиш, покинувшие Францию в начале революции, — это одна линия.
А потом, в 1792 году, появились псевдо-Гиш и псевдо-Батц — это вторая линия, независимая от первой: псевдо-Батц никогда не жил на улице Вивьенн — он жил в Шаронне!
Минуточку… Еще чуть-чуть, и все станет понятно. Две параллельные линии, которые нигде не пересекаются…
Барон де Батц из Альбре, хозяин «Общества страхования жизни», второсортный делец с улицы Вивьенн, мелкая сошка, один из многочисленных эмигрантов, делающих карьеру в чужой стране, офицер в армии принцев, — личность известная, но мало опасная.
Псевдо-Батц, таинственный Иностранец, Джемс Рис — личность никому не известная, но очень опасная, неуловимый конспиратор, управляемый из-за рубежа, пытавшийся спасти короля, потом королеву, вдохновивший аферу Ост-Индской компании, привлекший Эбера и Дантона к делу разрушения республики, имевший тайную поддержку в Комитете общей безопасности…
Так-так-так; еще раз.
Имевший тайную поддержку в Комитете общей безопасности…
Сен-Жюст стер испарину со лба и отбросил перо. И они еще думали провести его, они ржали как лошади, думая, что одурачили его и точно бабочку накололи на булавку… Не выйдет, граждане великие сыщики, ваша грязная игра раскрыта!
Все проще простого. Враг революции, породивший коррупцию в стране и вырвавший ряд звеньев из государственного аппарата, чтобы уничтожить республику, — это неуловимый псевдо-Ватц, или Джемс Луис Рис, которым он, Сен-Жюст, неустанно занимался начиная с вантоза; поняв величину опасности и согласовав свои действия с Робеспьером, Антуан сумел обезвредить этого оборотня, отсек ему руки и ноги, убрав эбертистов, дантонистов и «народные общества», захваченные иностранцами; он разглядел также, что щупальца злодея тянутся в Комитет общей безопасности, и чуть не осилил этот Комитет, создав Бюро общей полиции…
Чуть… Но хотя Сен-Жюст и держал свои мысли в тайне, хотя ни разу ни с трибуны, ни в частном разговоре (если исключить беседы с Робеспьером) не назвал имени оборотня, в Комитете общей безопасности кто-то что-то пронюхал. Тогда, спасая себя, Вадье, Жаго, Амар и другие стали вопить: «Держи вора!» Тогда вдруг все они потребовали поимки Батца, но какого Батца? Да Батца с улицы Вивьенн, председателя «Общества страхования жизни», жившего за границей и не имевшего никакого отношения к делу!..
Теперь он понял, почему эти ловкачи начали свое «расследование» только после казни Шабо и Дантона: ведь и тот и другой, да и почти все обезглавленные их сообщники знали лично псевдо-Батца, своего хозяина. Они знали, что это не Батц с улицы Вивьенн. Стало быть, подменять одного другим и начинать дело о фиктивном розыске, о розыске Батца с улицы Вивьенн, можно было лишь после того, как все, знавшие лично подлинного злодея, будут уничтожены и своими показаниями не смогут опровергнуть предателей из Комитета безопасности, подкупленных, как и они, псевдо-Батцем…
Все проще простого. Используя его отъезд на Северный фронт, они повели дальше свою дьявольскую игру. Неуклюже состряпав «покушения», они начали охоту на жителей квартала Вивьенн с целью создать внушительный «заговор Батца», который они якобы раскрыли и обезвредили, что дает им возможность скрыть подлинный заговор. И в довершение всего они внушили Робеспьеру идею, что докладчиком по этому грязному и пустому делу должен быть он, Сен-Жюст!..
Ну нет. Напрасно стараетесь, граждане. Я понял вашу игру. У меня, правда, еще нет непреложных доказательств, я не могу разоблачить вас открыто, но я, по крайней мере, сделаю все, чтобы помешать вашему торжеству: я не возьму на себя доклад, который вы так старательно пытаетесь мне навязать…
Он пришел во Дворец равенства около полудня и сразу же поднялся в Бюро. Робеспьер был там. Внимательно посмотрев на Сен-Жюста, Максимильен сказал:
— Долго спишь. И долго добираешься до Парижа.
— Я прибыл вчера.
— Знаю. Но я-то вчера не удостоился твоего посещения.
— Я был вчера в Комитете общей безопасности.
— Берешь быка за рога, — усмехнулся Робеспьер. — Ну а Самбру-то вы наконец перешли?
— Пытались, но неудачно, и ты знаешь об этом.
— Верно. И ты по-прежнему веришь во внешние победы?
— А ты по-прежнему надеешься на «верховное существо»?
— Если бы ты был здесь восемнадцатого флореаля, то убедился бы в торжестве моей идеи.
— Оно, судя по всему, оказалось непродолжительным.
Робеспьер промолчал.
— Для чего ты вызвал меня? — сухо спросил Сен-Жюст.
— Если был вчера в Комитете, должен знать… К тому же вызвал не я, вызвали все твои коллеги. Нас убивают, — продолжал Робеспьер. — Я не дорожу жизнью, но что будет с революцией, с родиной, если нас не станет?..
— Обратись к «верховному существу», и оно оградит тебя.
— Оградило, — поспешно произнес Робеспьер. — Оружие выпало из рук убийц, они посрамлены и будут уничтожены. И так будет впредь, пока верховное существо останется с нами… Через несколько дней состоится великий праздник в его честь. Это будет великий праздник. Наше торжество. Ты сам убедишься в этом.
«Хотел бы, — подумал Сен-Жюст. — Но не ждет ли тебя жестокое разочарование?»
— Верховное существо покончит с заговорами, — проникновенно продолжал Робеспьер. — Верховное существо примирит всех.
— А если не примирит?
— Примирит. Ты увидишь. А в случае чего, — Робеспьер сжал тонкие губы, — у нас есть закон, который сокрушит злодеев.
— Закон? Покажи его текст!
— Черновик у Кутона. Через несколько дней, если понадобится, он провозгласит проект, и мы добьемся принятия его Конвентом.
— Если понадобится? А в каком случае это может понадобиться?
Робеспьер ничего не ответил.
В большом зале собрались почти все члены обоих Комитетов. Слово взял Робеспьер.
— Вы знаете, — громко сказал он, — что заставило нас собраться. Новый заговор, более широкий и опасный, чем прежние, опутал столицу и страну. Это заговор иностранцев, возглавляемый подлым Батцем. Некоторые из нас уже чуть не стали его жертвами. Провидение продлило наши дни, дабы мы еще послужили республике. Усердием верховных комитетов заговор разоблачен, большинство конспираторов арестовано и понесет заслуженное наказание. Необходимо сделать доклад об этом, чтобы получить санкцию Конвента. Каковы будут ваши предложения по поводу докладчика?
Кто-то крикнул: «Им должен стать Робеспьер!»
— Нет, — возразил Робеспьер, — поскольку сам я одна из жертв, мне не следует выступать на эту тему. Я предлагаю поручить доклад тому, кто досконально знает заговор с момента возникновения и проследил все его фазы. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю: это Сен-Жюст, специально вызванный нами с фронта.
Раздались одобрительные возгласы и аплодисменты.
— Робеспьер прав, — сказал Вадье. — Не далее как вчера Сен-Жюст приступил к скрупулезному изучению новых документов по этому делу. Никто лучше его не справится с докладом.
Снова раздались аплодисменты. Затем наступила долгая тишина.
— Что скажешь, Сен-Жюст? — наконец не выдержал Барер.
— Я отказываюсь, — громко и внятно произнес Сен-Жюст.
Лицо Робеспьера покрылось мертвенной бледностью.
— На каком основании? — возмутился Вадье.
— Это — мое дело.
— Ты обязан объясниться! — воскликнул Вулан. — Это не твое дело, а наше общее дело.
Сен-Жюст пожал плечами.
— Никто не может заставить меня взять подобный доклад. Я объяснюсь, когда сочту это нужным. — Он встал и вышел из зала.
— Все покидают меня, — тихим голосом сказал Робеспьер. — Все, даже самые близкие, даже те, кому я верил, как себе.
Выходя, Сен-Жюст заметил одно лицо, расплывшееся в широчайшей улыбке. Это было лицо старика Вадье. В тот момент Антуан не понял причины радости своего недруга; впрочем, он не задумывался над этим.
Ему представлялось, что, отказываясь от доклада, он ставил всех их в затруднительное положение. В действительности же в затруднительном положении оказывался один Робеспьер.
Ему казалось, что, идя вразрез с их планами, он сумел разрушить эти планы и выбить почву у них из-под ног. В действительности же он только облегчил их игру: его отказ развязывал им руки.
И правда, через несколько дней они поручат доклад одному из своих, Эли Лакосту, политику, скомпрометированному в глазах Сен-Жюста, и смертельному врагу Робеспьера.
Только тогда он поймет: ему нельзя было отказываться от доклада, ему нужно было тянуть и тянуть, затягивая дело до тех пор, пока бы он не набрал материалов, достаточных для разоблачения подлинных заговорщиков.
Но будет уже поздно, и ничего изменить ни он, ни кто-либо другой уже не сможет…
30
«Какой магической силой обладают народные празднества, если подготовка к ним способна отвлечь от горьких мыслей, заставить забыть о скудной пище, о безденежье, о тревоге за будущее семьи… Робеспьер, очевидно, прав, уделяя большое место обрядовой стороне, — здесь даже грубая бутафория направляет чувства в нужную сторону». Так думал Сен-Жюст, прогуливаясь по Парижу во второй декаде прериаля.
И правда, Париж жил какой-то необычной, лихорадочной жизнью: столица готовилась к празднику верховного существа. Наблюдатели доносили, что даже в тюрьмах поднялась волна энтузиазма: везде хотели верить, что миновали черные дни голода и страха, что, декретируя существование бога, правительство возвещает новую эру — эру правосудия и изобилия.
Главный организатор будущего праздника, художник Давид, под руководством Робеспьера, составил широкую программу торжества, где было продумано и до мельчайших подробностей предусмотрено все, вплоть до взрывов народной благодарности, слез радости и даже ясного солнечного дня, которым обязательно должно было стать двадцатое прериаля…
Париж украшался. Тысячи каменщиков трудились над созданием амфитеатра против Дворца равенства. Искусные декораторы заканчивали ансамбль праздничных лозунгов и макетов. В жилых кварталах подправляли облупившуюся краску домов, закрывали большими щитами то, что могло нарушить величественную картину. На Поле собраний
[38] строили искусственную гору с гротами и храмами, увенчанную мощным дубом и колонной; здесь должны были восседать депутаты Конвента во время торжественного парада.
Где бы ни проходил Сен-Жюст, он всюду слышал звуки музыки и нестройные хоры: парижане репетировали гимн верховному существу. Мелодия гимна, созданная Госсеком, разучивалась организованно. Школьников гоняли в Музыкальный институт, взрослых собирали по секциям, и здесь композиторы и музыканты, в числе которых был сам Госсек, а также Лесюёр, Мегюль и Керубини, руководили импровизированными хорами. Правда, с гимном не все обошлось гладко. Комитет народного образования поручил написать слова поэту Мари-Жозефу Шенье. Слова уже были опубликованы в газетах, когда 16 прериаля Робеспьер, не доверявший поэту, брат которого, известный «бунтовщик и фельян», находился в тюрьме,
[39] запретил текст Мари-Жозефа Шенье. Новые слова было поручено написать поэту Дезоргу. Впрочем, проволочка со словами гимна не отразилась на народных спевках. Санкюлотов обучали только мелодии: им предстояло лишь подпевать во время торжественного шествия, подлинными же исполнителями гимна должны были стать артисты Музыкального института и Оперы, выучившие слова буквально за день до начала праздника.
Прогулки Сен-Жюста не были праздными. Он снова и снова обдумывал общую политическую ситуацию. Особенно волновал его проект закона, о котором он узнал от Робеспьера. Что это за новый закон? Почему о нем ничего и никому не известно? При каких обстоятельствах Неподкупный намерен дать ему ход? Ни до чего не додумавшись, Сен-Жюст отправился на дом к Кутону.
Мари Брюнель приветливо встретила его и провела в гостиную. Кутон, одетый в белую как снег пижаму, сидел в своем кресле. Лицо его выражало полную умиротворенность. Он держал в руках белого кролика, которого кормил люцерной. Трехлетний ребенок, прелестный, как херувим, стоял рядом и гладил то кролика, то руку отца, Появление Сен-Жюста нарушило идиллию. Кутон взглянул на него и ахнул; кролик выпал из рук, люцерна рассыпалась, ребенок заревел, и Мари поспешила унести его в другую комнату.
— Чему ты так изумился? — спросил Сен-Жюст.
— И сам не знаю, — вздохнул Кутон. — Мне ведь известно, что ты приехал. Но я не ждал тебя. — Помолчав, он добавил, словно извиняясь: — Я ведь, как видишь, снова прихворнул.
— Что не помешало тебе заняться разработкой проекта нового закона, — хмуро заметил Сен-Жюст.
— А, ты уже знаешь… Но если Робеспьер сказал тебе о проекте закона, то должен был добавить, что сам и сочинил его.
— Покажи проект закона.
— Достань верхние бумаги из среднего ящика стола.
Сен-Жюст внимательно прочитал проект. Потом перечитал по статьям. Нет, понял он, видимо, правильно. Согласно проекту, Революционный трибунал подлежал коренной реорганизации. Вместо двух нынешних в нем проектировалось четыре отдела. Все «формальности» — следствие, допрос, свидетельские показания, защита — отменялись как излишние: мерилом приговора становилась «совесть судей, движимых любовью к родине». Приговор был один: смертная казнь. Каждому гражданину вменялось в обязанность доносить на врагов народа. К ним относились те, «кто попытается унизить Конвент или внести в ряды его членов раздоры, кто употребит во зло революционные принципы, кто, распространяя ложные слухи, станет смущать граждан, препятствовать народному просвещению, развращать общественные нравы и народную совесть, и, наконец, те, кто посягнет на свободу, единство и безопасность республики или не признает ее безоговорочно».
— Это не то, совсем не то, — прошептал Сен-Жюст.
Кутон улыбнулся какой-то жалкой улыбкой.
— Максимильен считает, что это, быть может, наш единственный выход. Вспомни, процесс Дантона превратился в подлинное поле боя: изобличенный враг народа прибегает к свидетельским показаниям не для установления истины, а для запутывания дела. У бедняка нет возможности обратиться к юристу; богатый злодей пользуется продажной адвокатурой не для защиты, а для нападения…
— Это демагогия, — возразил Сен-Жюст.
— Это слова Максимильена, — тихо сказал Кутон.
— Я в этом не сомневаюсь. А теперь, друг Жорж, хватит душеспасительных проповедей. Послушай меня. Ты один из немногих в этом мире, с кем я могу говорить откровенно. И я буду говорить откровенно. Можешь ли ты обвинить меня в умеренности? Нет, не можешь, и не сможет никто. Я был одним из создателей Революционного правительства, я содействовал истреблению жирондистов и ликвидации фракций; и в Эльзасе, и в Северной армии я постоянно учреждал военные трибуналы, которые обрекали изменников на смерть. Ты знаешь лучше других: Сен-Жюст был, есть и будет беспощаден к врагам. И у нас, пока существует Революционное правительство, в особенности теперь, после жерминальских реформ, есть все средства, чтобы уничтожить злодеев. Разве ты не согласен с этим?
— Согласен, — уныло произнес Кутон.
— А если так, то для чего создавать этот нелепый закон? Для чего кодифицировать ужас и бесправие народа? Не для того ли, чтобы нас проклинали современники и осудило потомство? Впрочем, дело не в потомстве. Согласно вашему проекту, врагом народа является не только всякий инакомыслящий, но и всякий неугодный тем, кто стал бы применять данный закон. Представь на миг, что закон попадет в грязные руки, скажем в руки Вадье и его своры; не думаешь ли ты, что он тотчас обернется против нас? Максимильен — прекрасный систематизатор. Он все доводит до логического конца, а логический конец иногда становится абсурдом. Он пытается выковать грозное оружие и не задумывается о том, что это оружие можно направить в его грудь. Да, еще не наступило время делать добро, еще приходится бороться с врагами и проливать кровь. Но не нужно создавать легионы новых врагов и не нужно проливать кровь без пользы для дела — вот мой приговор вашему проекту.
Он замолчал. Молчал и Кутон. Молчание было долгим.
— Посмотри, что делается кругом, — вдруг встрепенулся Сен-Жюст. — Каюсь, я не верил Максимильену, я смеялся над надеждой на умиротворение и над этим праздником. И вот, праздник еще только готовится, а какой восторг он вызывает в людях! И все потому, что люди еще верят нам, несмотря на все свои беды. И что же предлагаем мы им в ответ? Мои вантозские декреты безнадежно погребены в каких-то комиссиях и подкомиссиях; вместо того чтобы дать народу землю, правительство с легкой руки Барера ограничивается смехотворными пособиями нищим и калекам, называя это «национальной благотворительностью»; а теперь еще вместо мяса и масла, вместо надежды на умиротворение посредством прочных республиканских институтов мы дадим им закон, который превратит их в баранов, гонимых на бойню. И это — в канун праздника верховного существа!
При последних словах друга Кутон несколько оживился.
— Минутку! — воскликнул он. — Подожди минутку, я сейчас тебе кое-что объясню. Ты говоришь о празднике. Так вот праздник-то и станет мерилом нашей дальнейшей деятельности.
— Как прикажешь тебя понимать? — удивился Сен-Жюст.
— Все очень просто. Максимильен свято верит в умиротворение. С этой целью он произнес речь 18 флореаля, с этой же целью обеспечена грандиозная подготовка к празднику верховного существа. Если праздник пройдет хорошо, если Робеспьер убедится в правоте своих чаяний, проект, который ты видел, не будет пущен в ход.
— Ты уверен в этом?
— Абсолютно. Это заветная мечта Максимильена. Кстати говоря, именно поэтому он и держит проект в тайне.
Сен-Жюст в раздумье покачал головой.
16 прериаля он получил письмо из Северной армии, от народного представителя Левассера. Письмо было тревожное. Четвертая попытка перейти Самбру не удалась. Журдан прибыл с меньшими силами, чем ожидали. Левассер умолял: «Твое присутствие остро необходимо. Приезжай скорее — это лучшее подкрепление для нас».
Сен-Жюст немедленно выправил новый мандат. Одновременно вместе с Карно он утвердил назначение Журдана на должность командующего Арденнской и Северной армиями. Мандат начинал действовать с 19 прериаля. Однако, как ни спешил Сен-Жюст, он еще на сутки задержался в столице: ему было необходимо узнать, как пройдет праздник верховного существа.
20 прериаля пришлось на прежнее воскресенье и совпало с праздником троицы; это совпадение, случайное или предумышленное, многим показалось добрым знаком. Верховное существо, выполнив заказ Давида, подарило жителям столицы чудный солнечный день.
Раннее утро, напоенное ароматами цветов и зелени, украшавших даже самые бедные дома, застало Антуана близ центральной террасы Дворца равенства; он пришел одним из первых, желая видеть все. Поднимаясь по парадной лестнице, он встречал на ее площадках, уставленных пюпитрами, первых музыкантов и хористов, которых должно было собраться до двухсот. Повсюду белели вазы с цветами и античные бюсты, вились гирлянды зеленых веток и колыхались знамена. Сен-Жюст подходил к верхней площадке, когда мимо него проскользнул человек. Облаченный в голубой фрак с широкой трехцветной перевязью, в белый пикейный жилет, золотистые панталоны и полосатые чулки, он держал в руке букет искусственных цветов и колосьев; лицо его, покрытое следами оспы, казалось сосредоточенным и одухотворенным. Это был Робеспьер. Погруженный в свои мысли, он не заметил Сен-Жюста или сделал вид, что не заметил; наверху его ждал присяжный Революционного трибунала, молодой и ловкий Вилат, который, сказав ему что-то, увел под руку вглубь. Антуан вспомнил: квартира Вилата помещалась в павильоне Флоры, откуда были прекрасно видны Национальный сад
[40] и все пространство между садом и дворцом.
Дойдя до площадки, Сен-Жюст оглянулся. Прямо против него полукругом раскинулся амфитеатр с креслами для депутатов Конвента; в центре полукруга на возвышении, покрытом трехцветным ковром, словно трон выделялось председательское кресло. По мере приближения времени к девяти депутаты занимали свои места. Сен-Жюст, стараясь держаться в стороне и избегая знакомых, пристроился сбоку на скамейке, возле посаженного весною картофеля.
Часы на центральном павильоне ударили девять раз. Толпы на площади и в парке пришли в движение. Робеспьер запаздывал; наконец появился и он. Едва поднявшись на председательское место, он приблизился к балюстраде и начал говорить. Его короткая речь неоднократно прерывалась рукоплесканиями. Под аплодисменты он спустился к небольшому искусственному озеру, в центре которого высился макет семи зол. Взяв у служителя факел, Робеспьер поджег мрачную фигуру Атеизма. Покров вспыхнул, картон загорелся, испуская удушливую вонь, а рабочие с высоких лестниц
крючьями растаскивали пылающие куски макета. Согласно плану Давида сожженные чудовища должны были открыть вид на статую Мудрости, находившуюся под ними; она действительно открылась, но оказалась закопченной и осыпанной тлеющими клочьями покрова…
Произошло замешательство. «Потемнела твоя мудрость, Робеспьер!» — крикнул кто-то…
К счастью, то был лишь момент, единственный момент в ходе праздника, оставивший тяжелое впечатление, — так показалось Сен-Жюсту. А дальше все пошло ладно. У статуи Мудрости Робеспьер произнес свою вторую речь, также сопровождавшуюся аплодисментами. Грянул гимн Госсека. Манифестанты закончили построение, и ряды тронулись. Путь предстоял немалый: чтобы достичь Поля собраний, где ожидалось главное торжество, нужно было, перейдя на правый берег Сены, пересечь площадь Инвалидов и, продефилировав под Триумфальной аркой, одолеть аллею школы Марса.
[41]
Необычное зрелище представилось зрителям, густо усеявшим пространство от Тюильрийских ворот до Триумфальной арки. Впереди двигались барабанщики, конные трубачи, музыканты; потом шли национальные гвардейцы, вооруженные пиками, катили пушки; двумя большими колоннами маршировали секции: дети были с фиалками в руках, молодежь — с побегами мирта, люди среднего возраста — с дубовыми ветками, старики — с листьями винограда; медленно передвигалась огромная колесница с деревом свободы и эмблемами плодородия, влекомая шестью волами; за ней следовали депутаты Конвента. Они, как и остальные граждане, были одеты по-праздничному: каждый представитель народа имел шляпу с плюмажем, трехцветный шарф и букет из цветов и колосьев.
Робеспьер, как председатель Конвента, шел шагов на двадцать впереди остальных. Он находился в центре всеобщего внимания. К ногам его бросали цветы. Женщины протягивали к нему своих малышей. Со всех сторон слышались восторженные восклицания:
— Да здравствует республика! Да здравствует Робеспьер!..
Казалось, то был голос всей нации. Никогда еще Сен-Жюст не видел своего друга таким обожаемым, одухотворенным и счастливым…
Полагая, будто увидел все, что хотел увидеть, и узнал все, что хотел узнать, понимая, что церемония продлится долго — еще не дошли до Поля собраний, а в пути уже были больше двух часов, — Антуан незаметно отстал, свернул в переулок и отправился домой, решив хоть немного отдохнуть перед отъездом.
Он мирно спал, и дурные предчувствия не волновали его: казалось, все шло как надо. Здесь, в Париже, Робеспьер одержал победу и вряд ли станет теперь превращать свой страшный законопроект в закон. Там, на фронте, им и Журданом будет одержана решающая победа, и внешний враг, полностью сломленный, запросит мира. И тогда окончится эра ужаса. Вместо трибуналов будут созданы республиканские учреждения, которые просветят народ и научат его жить по-новому. Отменив максимум, отдав себя созидательному труду, французский народ станет примером для всей земли, пионером новой эры, эры всемирного братства и счастья…
Он мирно спал, и дурные предчувствия не волновали его… Только потом, в мессидоре, Сен-Жюст поймет всю глубину своего просчета: желаемое он принял за сущее. За десять дней, проведенных в Париже, он дважды ошибся, и обе ошибки стали роковыми. Подобно тому как в начале второй декады прериаля он дал фору врагам, отказавшись от доклада об «иностранном заговоре», так и теперь, в конце той же декады, поверив в победу Робеспьера, он поверил и в то, что жестокий закон не будет принят, чем вторично сыграл на руку той же компании. Только потом, в мессидоре, он поймет, что «иностранный заговор» и прериальский закон были двумя частями провокации, предпринятой врагами, желавшими погубить Неподкупного любою ценой, и что, отказавшись от доклада, он, Сен-Жюст, развязав им руки, облегчил грязную игру. Но может быть, и сейчас, если бы он более внимательно следил за тем, что происходило 20 прериаля, и если бы остался до конца праздника, — может быть, и сейчас он понял многое, ускользнувшее от него, и не покинул столицу с таким легким сердцем…
…Да, торжества эти прошли для Робеспьера далеко не так безоблачно, как представлял Антуан. Уже в самом начале, когда Неподкупный не поспел к открытию церемонии, кое-кто из депутатов брюзжал: «Он разыгрывает из себя короля!» Потом, во время шествия, умышленно замедляя шаг, чтобы увеличить расстояние между ними и «диктатором», они не жалели сарказмов, которыми осыпали его. Но самое страшное произошло в конце, после официальной части.
Смеркалось. Все измучились и устали. Первою схлынула масса зрителей, потом побежали манифестанты. Давка создалась невообразимая. Кругом валялись раздавленные колосья и цветы. Наконец, двинулся в обратный путь и Конвент, точнее, те из его членов, кто еще не успел сбежать. И тогда Робеспьер, который, как и раньше, шел впереди, услышал за собой голоса:
— Ему мало быть повелителем, он хочет стать богом!..
— Пусть не надеется: из этого яичка не вылупиться цыпленку!..
— Великий жрец! Тарпейская скала
[42] совсем рядом!..
— Бруты еще не перевелись!..
— Тиран! Возмездие настигнет тебя!..
…В страшном оцепенении двигался Робеспьер. Он узнал голоса. И понял: план не удался, верховное существо не откликнулось на его призыв…
Вернувшись домой, он сказал своим близким:
— Друзья мои, вам уже недолго осталось видеть меня… — И добавил чуть слышно: — Но прежде чем погибну, я раздавлю негодяев…
…Обо всем этом Сен-Жюст узнает позднее, в мессидоре. Сейчас же он отправлялся на фронт с легким сердцем. Верный Филипп не сопровождал его: Элиза вот-вот должна была родить и не желала расставаться с мужем. Робеспьер помог им, и по его протекции Леба был назначен начальником школы Марса.
Сен-Жюст покинул столицу утром 21 прериаля. Через три дня он был в Маршьен-о-Пон, на главной квартире Журдана.
31
Он ждал победы и дождался ее. Еще дважды пришлось солдатам революции переходить Самбру под огнем противника, прежде чем удалось прочно стать на левом берегу реки. Но теперь рядом был храбрый и верный Журдан. После неудавшегося пятого перехода Сен-Жюст хотел провести массовые расстрелы. Журдан, ссылаясь на малочисленность войск, удержал его.
— Хорошо, — сказал Сен-Жюст. — Но если в следующий раз мы снова сорвемся, я расстреляю тебя, генерал.
Расстреливать никого не пришлось. С бульдожьим упорством, словно вгрызаясь в землю, французские солдаты пядь за пядью овладевали вражеской территорией, пока не добрались до Шарлеруа. Город был осажден. Утром 7 мессидора появился австрийский офицер с письмом от коменданта крепости. Сен-Жюст не вскрыл письма.
— Нам нужна не бумага, а крепость, — сказал он посланцу.
Несколько часов спустя крепость капитулировала.
А на следующий день, 8 мессидора, французская армия, возглавляемая Журданом и Сен-Жюстом, одержала знаменитую победу, которая станет хрестоматийной; то была победа при Флерюсе, решившая исход всей кампании. Интервенты, оставив Ландреси, Валансьенн, Ле-Кенуа и Конде, покатились на восток.
Странное дело! Много недель он жил предвкушением этой победы — он ждал от нее чудес. Но вскоре пришлось убедиться, что чудес не бывает; и когда победа пришла, он поймал себя на том, что думает вовсе не о ней и уже не ждет от нее ничего, напротив, опасается, как бы она не осложнила общего положения. Робеспьер, конечно, был не прав, возлагая все надежды на верховное существо; но он был абсолютно прав, когда уверял, что внешние победы не могут вывести из внутреннего тупика.
А тупик становился все более очевидным.
Как ни был занят Антуан своими ратными делами, он после отъезда из Парижа с напряженным вниманием следил за всем, что делалось там, в центре революции, в Конвенте, в комитетах. Он еще находился в Маршьен-о-Пон, когда Гато, примчавшись из Парижа, привез очередные новости. От него-то Сен-Жюст и узнал, как закончился прериальский праздник. И как был принят пресловутый закон…
Видя крах всех надежд на умиротворение и внутреннее единство, Робеспьер и Кутон в течение трех суток судорожно бились за утверждение своего проекта. Поскольку децимвиры больше не доверяли Комитету общей безопасности, проект был вынесен в Конвент без санкции этого Комитета. Дважды Робеспьер выступал с сильными речами, прежде чем Конвент поддался. Наконец 22 прериаля законопроект стал законом, но тут начались жестокие разногласия в самом Комитете общественного спасения, и Неподкупный, рассорившись со своими коллегами, перестал посещать заседания Комитета и Конвента. Именно тогда-то, по словам Гато, Робер Ленде сказал коварному Вадье: «Неподкупный в наших руках. Он сам роет себе могилу».
Сен-Жюст сжал руки до хруста в суставах.
Что же получалось? Значит, не только клика в Конвенте, не только Комитет безопасности, но и многие члены главного правительственного Комитета становились в явную оппозицию к робеспьеристам?.. Но ведь отсюда следует, что, даже добившись принятия страшного закона, Робеспьер не сможет пожать плоды, поскольку привести в движение закон может лишь Комитет в целом!
И Максимильен, очевидно поняв это, не нашел ничего лучшего, чем выйти из игры… Но к чему же в конечном итоге приведет подобное?..
— Что с тобой? — удивился Гато.
— Они погубили все дело, и я невольно потворствовал этому, — тихо сказал Сен-Жюст. — Была забыта азбучная истина: если слишком туго натянешь лук, тетива может лопнуть…
Теперь было ясно, чем кончится дело с «заговором Батца».
Подробности рассказал Кутон 12 мессидора, в день возвращения Сен-Жюста в столицу.
26 прериаля Эли Лакост прочитал в Конвенте доклад «О заговоре иностранцев, называемом заговором де Батца». Он назвал 54 имени арестованных «участников заговора». К их числу относились «покушавшиеся» со своим окружением, ряд бывших аристократов, несколько полицейских, слывших «недоброжелателями» Робеспьера, и много случайных людей, никому не известных и незнакомых друг с другом. Пораженный Конвент утвердил доклад Лакоста, и пятьдесят четыре арестованных стали пятьюдесятью четырьмя подсудимыми. Фукье «провел» дело в один день, 29 прериаля, поскольку закон позволял обойтись «без формальности». Допрошены, и то по специальному требованию Комитета общественного спасения, были лишь двое: Дево, бывший секретарь псевдо-Батца, и Руссель, знавший псевдо-Батца и Батца с улицы Вивьенн. Допрос Дево был коротким; он закончился так: «Укажите, где скрывается Батц, и вы будете помилованы». — «Я невиновен и не знаю, где находится Батц». Большего Фукье и не добивался. Что же касается второго допроса, то здесь произошла непонятная «ошибка»: вместо Пьера-Бальтазара Русселя, знавшего обоих Батцев, допросили его брата Пьера-Жозефа, не знавшего ни одного из них. Судебная процедура была предельно краткой. После переклички обвиняемых судья повторил пятьдесят четыре раза вопрос: «Признаете ли вы себя виновным?» — и получил пятьдесят четыре ответа: «Нет, не признаю». Если кто-то пытался добавить к этому какое-либо объяснение, его лишали слова. Затем прокурор потребовал смертной казни для всех подсудимых, и присяжные утвердили приговор, в тот же день приведенный в исполнение.
Жуткую картину представляло шествие на казнь. Комитет общей безопасности провозгласил всех смертников «отцеубийцами». Их нарядили в красные балахоны и разместили на девяти телегах. Место казни нарочно перенесли с площади Революции на площадь Трона: ужасной процессии пришлось следовать через все Сент-Антуанское предместье, населенное рабочим людом. Три часа дребезжали по мостовой телеги, переполненные одетыми в красное, среди которых были женщины, молодые девушки, почти дети… Фукье хохотал, указывая на смертников. «Вот процессия, напоминающая шествие кардиналов», — говорил он, явно намекая на «папу» — Робеспьера. А жестокий Вулан взывал к своим коллегам: «Идемте скорее, насладимся кровавой мессой». И, следуя за агентами, сопровождавшими телеги, он кричал: «Смерть убийцам Робеспьера!»
Сен-Жюст ощутил неприятный озноб. «Пеняй на себя, несчастный, — думал он. — Ты обо всем догадывался, но ничего не сделал для предотвращения злодейства. А теперь в нем винят и будут винить всегда твоего друга Максимильена Робеспьера». В этом мнении Антуан укрепился. когда Кутон рассказал ему еще одну историю.
Не успела гильотина снести головы «отцеубийцам», как неутомимый Вадье 27 прериаля заявил с трибуны Конвента о новом заговоре, раскрытом его подчиненными. В центре заговора была полусумасшедшая старуха Катрин Тео, объявившая себя «богоматерью» и обещавшая скорое пришествие «мессии». С «богоматерью», имевшей обширную клиентуру верующих, была связана, по словам Вадье, большая группа аристократов, поддерживающих отношения с Лондоном и Женевой, а также бывший член Учредительного собрания монах Жерль. Всех этих лиц, уже арестованных, Вадье обвинял в контрреволюционной деятельности и требовал предания их Трибуналу. Несколько раз, среди общего смеха, Вадье намекал на Робеспьера как на вероятного «мессию». Но, ограничившись ироническими экивоками, он скрыл от депутатов многие факты, установленные следствием. Он не сказал, что среди поклонниц «богоматери» были родственницы Дюпле. Промолчал он и о том, что обвиненный им Жерль проживал в доме Дюпле, а документ о благонадежности получил из рук Неподкупного. Все эти факты должен был обнародовать во время процесса Фукье… Конвент утвердил доклад Вадье и постановил, чтобы он был опубликован. Но Робеспьер почуял опасность. Он затребовал дело у Фукье и повел отчаянную борьбу за его закрытие или по крайней мере приостановку. 8 мессидора, в день победы при Флерюсе, Неподкупный с большим трудом добился отсрочки дела; одновременно он вырвал у децимвиров согласие на отставку Фукье и замену его своим земляком Эрманом. Правда, все это было решено только на словах, и Фукье продолжал временно сохранять свою должность…
— Именно с этих пор Максимильен окончательно порвал все с Комитетом и не появлялся больше ни там, ни в Бюро, — в раздумье закончил Кутон и погрузился в молчание.
— Пойду к нему, — сказал Сен-Жюст. Но прежде чем покинуть Дворец, он все же заглянул в Комитет общественного спасения.
Его встретили бурно. Со всех сторон слышались поздравления.
— Дорогой коллега, — лебезил Барер, — мы ждем тебя с величайшим нетерпением. Мы знаем все только в общих чертах. Депеша от Журдана и австрийские знамена еще не прибыли.
— Прибудут, — ответил Сен-Жюст.
— Не сомневаемся в этом… Но я готовлю доклад, чтобы удовлетворить законную любознательность депутатов. Ты ведь вел войска при Флерюсе… Расскажи-ка об этом.
— Что рассказать?
— Ну, что-нибудь интересное… воодушевляющее, что ли. Подробности, яркие примеры…
Все выжидающе смотрели на него. Он пожал плечами.
— Вы найдете это в письме Журдана. Там есть все, что следует рассказать.
«Или это хитрый сговор, или я еще что-то значу в вашей среде», — подумал Сен-Жюст уже за дверью зала с колоннами.

Проходя по улицам, он уловил что-то новое и не сразу понял, что именно. Кругом царило оживление. Несли столы, стулья, корзины и пакеты. Вокруг кричала детвора. Вот близ углового дома на улице Сент-Оноре столы уже расставлены, люди, сидящие за ними, оживленно беседуют. А из корзин извлекают супницы, тарелки, ложки, пузатые бутылки и караваи хлеба. Пока Антуан дошел до жилища Неподкупного, он трижды созерцал подобную картину. За одним из столов даже пели революционные песни… Время было обеденное, это верно. Но почему на улице? И почему все вместе?..
Действительно, за одним столом сидят и хорошо одетые, упитанные люди, и подлинные санкюлоты в рванье и красных колпаках; и все оживлены и, кажется, о еде и питье думают меньше, чем о разговорах, сопровождающих трапезу… Ничего не поняв и решив расспросить Робеспьера, Сен-Жюст нырнул в проем ворот дома № 366.
У входных дверей его встретила Элиза.
— Откуда ты здесь? — удивился Сен-Жюст. И тут же, увидев ее стройную фигуру и сияющие глаза, хлопнул себя по лбу: — Прости, ради бога. От души поздравляю… Когда же?
— Тридцатого прериаля, — улыбнулась Элиза. — Маленькому Филиппу уже почти две недели…
— Филиппу? В честь отца?..
— А ты как думал?
Счастливый отец бежал навстречу другу, широко открыв объятия.
— Поздравляю, поздравляю, — повторял Сен-Жюст. — Но ты-то, папаша, почему не в своей школе Марса?
— Могу же я забежать домой, чтобы поцеловать маму и сына? Но сейчас убегаю, о деле поговорим вечером.
Элиза как-то по-особенному смотрела на Сен-Жюста и вдруг бросилась к нему на шею, горячо обняла и поцеловала.
— Я так счастлива, милый Флорель!
— Смотри, буду ревновать, — улыбнулся Филипп, уходя.
— Пройдем в дом, — Элиза потянула Антуана за руку. — Мы переехали сюда потому, что на первое время мне необходима помощь мамы… Да не шарь глазами, дурачок, твоей здесь нет, она укатила во Фреван!..
Сделав вид, будто не заметила краску на лице Антуана, Элиза провела его по коридору и, открыв дверь в комнату, гордо показала на маленький кулек, лежавший в колыбели.
— Вылитый отец, — безапелляционно заявил Сен-Жюст.
— Правда? — подхватила Элиза. — Я так счастлива, Флорель…
«Слишком часто ты это повторяешь», — подумал он.
Она опять с тем же особенным выражением посмотрела на него.
— Сказать по правде, Флорель, я рада, что у тебя так получилось, это к лучшему, поверь мне. Она тебе не пара: такая же зазнайка, как и ты. У вас бы ничего не вышло: вы истребили бы друг друга. Нет, тебе нужна не такая, совсем не такая.
— А какая? — улыбнулся Сен-Жюст.
Элиза зарделась и ничего не ответила.
— Если бы у тебя была сестра… — мечтательно сказал он.
— У меня их целых три! — расхохоталась она.
— А ведь и правда…
— Но одна из них, как и я, замужем.
— Верно. Вторая влюблена в Робеспьера.
— Допустим. А третья тебе никак не подходит.
— Это почему же? — снова улыбнулся Сен-Жюст.
— Да слишком скромна и проста. Полная противоположность твоей Анриетте. Тебе же нужно нечто среднее.
— Вроде тебя, не правда ли?
— Пожалуй.
— Эх, — вздохнул Сен-Жюст, — ведь упустил, идиот.
— Идиот и есть, да жалеть-то поздно… — Вдруг она спохватилась: — Ба, да ведь ты же спешишь к Максимильену!
— Он может подождать.
— Он может, да мой малыш не может: надо его кормить. Иди же, Флорель. Дорогу, надеюсь, не забыл?..
…Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.
«Осунулся, похудел, — подумал Сен-Жюст. — Плох ты, мой дорогой».
Максимильен чуть помедлил, затем бросился навстречу Сен-Жюсту и открыл объятия.
— Как же я ждал тебя, Флорель…
Антуан крепко обнял его и тут же, чтобы не забыть, спросил:
— Объясни, чем вызвана эта сутолока на улицах, что означают эти столы, миски, бутылки, песни?
— Новая уловка контрреволюции — «братские трапезы».
— Почему же контрреволюции? Там повсюду красные колпаки!
— От красных колпаков недалеко до красных каблуков.
[43] Это единая цепь. Началось во флореале с секционных культов, завершилось теперь «братскими трапезами». Полагаю, это затея Бийо. Подумай сам: чокнувшись сегодня с недобитым врагом за здоровье республики, будешь ли ты с прежним мужеством разоблачать его завтра? Брататься с бывшими умеренными или ультра — не значит ли это губить республику?
— Твоя правда. Но бог с ними, с «братскими трапезами». Есть ведь проблемы куда более серьезные.
— Несомненно. Однако «братские трапезы» — это лишь одно из проявлений общего зла, которое ныне грызет республику.
— Ты о чем?
— А вот о чем. Дантон умер, но дантонизм остался. Эбера нет больше, а его наследники, как и в вантозе, пытаются овладеть верховной властью. Тебе не приходилось задумываться над этим? И, пожалуй, самое страшное — что охвостья повергнутых клик ныне начинают спеваться. Бывший маркиз Баррас слывет ярым террористом, а прежние защитники Ронсена — Бийо и Колло упрекают меня в «сверхреволюционных» мерах.
— Максимильен, ты ошибся в надеждах на верховное существо.
— Не кори меня этим. Если даже мои надежды на новый культ и не оправдались в полной мере, то пользу из праздника я все же извлек: теперь я лучше знаю наших врагов. В хоре дьявольских завываний я отчетливо различил голоса Бурдона из Уазы, Тириона, Лекуантра и других; как видишь, здесь красные каблуки и красные колпаки в самом тесном альянсе.
— И поэтому вы с Кутоном ровно через два дня так добивались принятия закона 22 прериаля? Если надежда на новый культ была ошибкой, то надежда на подобный закон — безрассудство.
— Знал бы ты все… — прошептал Робеспьер.
— Говори, — нетерпеливо произнес Сен-Жюст.
— Прежде всего, да будет тебе известно, что не я придумал этот закон и не я первый советовал его принять. Более всего здесь ответственны двое. Изобретателем был Бийо-Варенн. Ему же принадлежит и первое представление законопроекта в Комитет…
— Ты поразил меня. Ведь именно Бийо, по словам Кутона, особенно резко укорял тебя после принятия закона Конвентом!
— Укорял, говоришь ты? Да он обозвал меня контрреволюционером! Вот и разберись в человеческой душе и человеческих поступках…
— Стало быть, он попросту спровоцировал тебя?
— Можно сказать и так… Спровоцировал, а затем публично обвинил в кровожадности… Мог ли я после этого оставаться в Комитете?
— Как знать… А кто второй?
— Сиейс. Он заклинал меня поспешить с принятием закона, утверждая, что «смерть без фраз» — это его слова — наше единственное спасение от заговорщиков… И сразу же после принятия закона, когда меня не было и Комитете, Сиейс предложил организовать два больших процесса: один — по «делу Батца», для устрашения бывших дворян, второй — по делу Катрин Тео, для устрашения священников…
— Так это его затея? «Смерть без фраз»… Каков негодяй!
— Увы, я не внял тогда твоим предостережениям… Правда, дело «богоматери» мне удалось приостановить, я понял всю его подоплеку, но «дело Батца» проскочило и окончилось. Ты, впрочем, знаешь, чем оно окончилось…
— Оно не окончилось, Максимильен. Эти лицемеры попытались похоронить его, устроив гекатомбу, пролив кровь невинных людей. Я еще выведу их на чистую воду, поверь мне… Однако речь сейчас не об этом. Давай попытаемся набросать общую картину и прикинем наши шансы. Прежде всего, можно ли более или менее точно назвать наших врагов?
Робеспьер задумался. Потом сказал:
— Думаю, можно. Прежде всего это Комитет общей безопасности.
— Согласен. Там только Давид и Леба наши люди. Но Давид — художник, а не политик, друг же наш Филипп больше занят женой и ребенком, чем делами своего Комитета, да к тому же теперь он еще возглавляет школу Марса. А что ты скажешь о нашем Комитете?
— До сих пор я считал, что с удалением Эро он стал единым. Теперь же вижу, что кроме нас двоих в нем добродетелен и предан республике только Кутон. Остальные либо равнодушные, либо интриганы, либо, наконец, прямые враги.
— Последние, на мой взгляд, вызывают наибольший интерес.
— Безусловно. Из числа их, как показало недавнее прошлое, главную опасность представляют Бийо и Колло: прежние соратники Эбера и Ронсена, они остались тайными ультра.
— Прибавь к ним Карно и Ленде: в прошлом они проявили себя как сторонники Дантона, в настоящем — как спесивые «специалисты», взявшие на откуп военное дело и продовольствие; к ним примыкает Приер из Кот д’Ор, во всем послушный Карно.
— Ты забыл о Барере, — сказал Робеспьер.
— О Барере? — улыбнулся Сен-Жюст. — Нет, Барер — это нечто иное…
Странно, но Барера он не любил много меньше, чем других коллег по Комитету, хотя знал все проделки и все пороки этого пылкого и хвастливого гасконца, его двуличие, пустоту, тяготение к роскоши и разврату. Барер был мил, любезен, в отличие от большинства децимвиров, он имел неплохое классическое образование, мог поддержать любой разговор и все понимал с полуслова…
— Не идеализируй Барера, — прервал его мысли Робеспьер. — Он еще покажет себя.
— Возможно. А что ты скажешь о Конвенте?
— В Конвенте существует сильная партия, враждебная подлинным патриотам. Ею, по-видимому, руководят названные мною лица: Бурдон, Тирион, Лекуантр. В нее входят также отозванные из миссий, опозорившие звание представителей народа Фуше, Карье, Баррас, Тальен. Но в целом, я думаю, Конвент не может противостоять нам. Я верю в добродетельность большинства. Обрати внимание на один нюанс. Кто нападает на меня из-за закона 22 прериаля? Все это люди, которым, казалось бы, закон особенно по сердцу и которые уже используют его в своих интересах. Это Бийо, Колло, Вадье и компания, все наследники Эбера, «дехристианизаторы» и сторонники крайнего террора. Они обвиняют меня в кровожадности, а сами сотнями поставляют жертвы эшафоту. Ныне они усиленно требуют пересмотра и отмены закона. Это ловушка.
— Это ловушка, — словно эхо повторил Сен-Жюст.
— Ты понял меня? — оживился Робеспьер. — Ошибка или не ошибка принятие нового закона, но теперь отступать поздно. Подумай, что получилось бы, откликнись мы на их требования: мы расписались бы в собственном бессилии. Мы показали бы Конвенту и народу, что обвинения, выдвинутые против нас, верны. А значит, нужно идти вперед, нужно доказать, что мы последовательны и не трусим перед угрозами разных амаров и вадье, что мы способны спасти республику вопреки их гнусностям и дьявольским козням.
— Именно поэтому ты и самоустранился от всего?
Робеспьер внимательно посмотрел на собеседника.
— Твоя ирония неуместна, Флорель, В данном случае ты ошибаешься. Я не самоустранился, а временно отошел в сторону, чтобы лучше разглядеть и осмыслить суть дела. Впрочем, мой отход только кажущийся: бумаги мне носят на дом и дома же я принимаю доверенных лиц, точно докладывающих мне о поведении заговорщиков. Но разумеется, без тебя нам с Кутоном приходилось туго. Именно поэтому я ждал тебя с таким нетерпением.
Сен-Жюст задумался. Потом медленно произнес:
— Мне кажется, я понял, куда ты клонишь. Ну что ж, попробуем. Давай же разделим наши труды, чтобы потом свести воедино полученные наблюдения. Я возьму на себя комитеты. С помощью Бюро я постараюсь сосредоточить в своих руках все необходимые сведения и точно определить направление и степень опасности. Что же до тебя, то свою линию ты уже выбрал. Не ходи и дальше в Комитет. Тебя боготворят якобинцы — пользуйся этим, появляйся почаще в Клубе, захвати его трибуну, создавай общественное мнение. Постарайся также более точно установить положение в Конвенте. Когда придет время, ты произнесешь блестящую речь и разоблачишь врагов. А дальше все будет зависеть от обстоятельств: либо с помощью Конвента мы осилим комитеты, либо, объединив наших коллег по комитетам, проведем чистку Конвента. Таков ведь твой план, если я его правильно разглядел.
Робеспьер улыбнулся.
— Я всегда знал, что ты понимаешь меня с полуслова, Флорель.
32
За утренним кофе Полина сказала:
— Гражданин представитель народа…
Сен-Жюст скривился.
— Сколько раз, милая хозяюшка, просил я вас называть меня попроще; можете выбрать любое из моих имен: Луи, Леон, Антуан или Флорель; или же произносить мое полное имя: Луи-Леон-Антуан-Флорель; но оставьте, черт возьми, эту официальность, иначе мы так и не станем добрыми друзьями!..
Полина опустила глаза.
— Мне неловко, гражданин представитель народа…
Ну как тут было не рассмеяться. Антуан испытывал самые теплые чувства к этой милой тридцатипятилетней вдовушке, такой внимательной и по-матерински заботливой; готовая предупредить его малейшее желание, он чувствовал, брось лишь намек, и она охотно стала бы его любовницей; но ему не нужна была любовница, и он не бросал ни малейшего намека, а она была не из таких, чтобы навязываться, и это он ценил в ней не меньше, чем ее заботливость и доброту; вот только эта чрезмерная уважительность его порой раздражала, но он старался быть терпимым, насколько мог.
— Итак, что вы хотели сказать мне, Полина?
— Видите ли, гражданин, я давно лелею мысль написать ваш портрет… — Женщина смутилась и снова опустила глаза. — Вы ведь такой заслуженный патриот, и мне было бы лестно… — Она окончательно смутилась, запнулась и замолчала.
— Мой портрет? — Сен-Жюст задумался. Не будучи тщеславным, он не испытывал особого желания любоваться своим обликом в бронзе, мраморе или на холсте; впрочем, его писали несколько раз: писал Грез, писал Прюдон, писал, и неоднократно, Давид; но ни один из этих портретов ему не нравился; даже такой мастер, как Давид, казалось, не мог схватить главного в его лице. Он с интересом посмотрел на Полину; ему было известно, что она занималась живописью, но он как-то мало интересовался ее творчеством.
— Ну что ж, — сказал он наконец, — я не против. Вот только времени у меня маловато — смогу позировать лишь урывками…
Да, с портретом пришлось повременить. В ближайшие недели Сен-Жюст не смог выкроить и часа для позирования: он дневал и ночевал в своем Бюро. Он даже бросил пробный шар: указав Комитету, что завален делами, предложил Бийо разделить с ним труд. Тот отказался. «Ты выдал себя, дружок, — подумал Сен-Жюст, — тем лучше». Он попытался размежеваться с Комитетом общей безопасности; несмотря на сопротивление Вадье, он отбирал материалы, в той или иной мере связанные с Батцем и его окружением.
— Зачем тебе это старье? — ворчал Вадье. — Ведь дело окончено, виновные наказаны, и все следует сдать в архив!
— Сдадим, когда придет время, — ухмыльнулся Сен-Жюст. — А пока закрывать дело рано: ведь самого Батца вы так и не взяли?..
В своих разысканиях он столкнулся с работой финансового ведомства. И пришел в ужас. Он, правда, и раньше относился с подозрением к Камбону, главному финансисту Конвента. Сколько раз предостерегал он от злоупотреблений выпуском необеспеченных ассигнатов! Теперь они падали все ниже, доходя до 50, 40, 30 процентов номинала; режим максимума не спасал положения.
«Гильотинируйте! — кричал Камбон. — Хотите покрыть расходы ваших армий — гильотинируйте. Хотите стабилизировать экономику страны — гильотинируйте, гильотинируйте, гильотинируйте!..»
Эти выкрики в устах умеренного лидера казались невероятными. Сен-Жюсту, называвшему максимум «подарком Батца», давно уже приходило на ум, что деятельность Камбона сильно отдает контрреволюцией. Теперь он нашел неожиданное подтверждение. В бумагах Бюро он обнаружил доклад одного из наиболее дельных агентов, сданный в канцелярию за день до прибытия Сен-Жюста в столицу. Агент обвинял американского посла Морриса в «покровительстве врагам общественного дела», поскольку он «помогал вывозить в Америку фонды, порученные ему аристократами». Сен-Жюст словно прозрел. Трансферты французских капиталов в Америку, когда неуклонно падает курс ассигнатов! Трансферты, которые конечно же не могли иметь места без пособничества Камбона… Итак, Камбон был в рядах самых беспощадных врагов. Но дело не ограничивалось этим. Одновременно, присматриваясь к деятельности мистера Морриса и всего представительства Соединенных Штатов в Париже, Сен-Жюст не мог не прийти и к другим весьма печальным выводам. Странно, но великая заокеанская республика словно забыла, что когда-то ее революция закончилась не без активного участия французских добровольцев. Во всяком случае, ее посол проявил себя недругом революционной Франции. После падения монархии мистер Моррис долгое время отказывался от сношений с новым режимом. А потом? Потом было не лучше. В нивозе, когда Франция находилась в особенно тяжелом положении, начались переговоры об американской помощи; они закончились безрезультатно: даже тулонская победа не вдохновила американцев на заем, которого добивался тогдашний министр Дефорг. И это в то время, когда американские дельцы проникали во Францию, получали паспорта у Революционного правительства, скупали произведения искусства и строили свой бизнес на трагически-тяжелом положении санкюлотов! И вот в заключение, эта афера с вывозом французских капиталов…
Вдумываясь в существо дела, Сен-Жюст представил себе несколько иной, чем раньше, аспект иностранного заговора. Нет, теперь в этом заговоре главную роль играли не Австрия и Пруссия: Луккезини и Гарденберг были готовы к переговорам о мире. Теперь на первое место среди врагов выходили Англия и… Соединенные Штаты. Но, в отличие от Питта, американские власти действовали более тонко. Мистер Моррис, словно забывший свои пророялистские симпатии, сегодня показывал видимость дружелюбия, не скупился на хорошие речи и заманчивые обещания; на деле же американские бизнесмены при посредстве предателя Камбона готовили новое мошенничество, куда более страшное, нежели дело Ост-Индской компании. И главной пружиной здесь оставался, по-видимому, все тот же Батц, точнее, псевдо-Батц, неуловимый иностранец Джемс-Луис Рис, который, быть может, потому и остается неуловимым, что скрывается в американском посольстве…
Чтобы проверить эту гипотезу, нужно было начать с тщательного обыска у американцев. Но Сен-Жюст понимал, что ставить этот вопрос сейчас преждевременно: вся свора в комитетах сразу поднялась бы на дыбы, что только осложнило бы положение соратников Робеспьера, тем более что Барер, ведавший внешней политикой, и Карно, все еще веривший в американскую помощь, боялись и пальцем тронуть всесильного мистера Морриса…
Эти размышления Сен-Жюста были прерваны новыми заботами крайне неприятного свойства.
Проблема тюрем беспокоила децимвиров уже с начала вантоза. Тюрьмы наполнялись гораздо быстрее, нежели революционное правосудие могло их разгрузить, и к концу прериаля число заключенных в Париже достигало восьми тысяч. В тюрьмах создавалась невероятная скученность, условия содержания ухудшались, и до властей все чаще стали доходить зловещие слухи о тайных сговорах и подготовке мятежей. В дни, когда Сен-Жюст одержал флерюсскую победу, Комитет предписал Эрману, главному комиссару гражданской администрации, сделать доклад о положении в тюрьмах и принять необходимые меры. Доклад оказался неутешительным. В нем указывалось, что тюрьмы нуждаются в быстрой и эффективной «очистке». Но как производить эту «очистку»? Группа Бийо считала, что исключительно путем передачи «мятежников» в Революционный трибунал; этот метод уже был испробован к тому времени, когда Сен-Жюст, прибывший в столицу, оказался втянутым в дискуссию.
16 мессидора был прочитан рапорт Эрмана о положении в Люксембургской тюрьме — самой большой из тюрем Парижа. Сен-Жюст, не принимавший участия в общем разговоре, сидел задумавшись за своим столом. Вдруг лицо его просветлело.
— Эврика! — воскликнул он. — Минуту внимания, коллеги!
— Что такое? Что нашел? — спросил Барер.
— Нашел средство быстро разгрузить тюрьмы. И не без пользы. И одновременно средство безболезненно закончить борьбу с «подозрительными».
— Безболезненно? — удивился Барер.
— Вот именно. Но слушайте же. Тысячу лет дворянство подавляло народ феодальными вымогательствами. Аристократам помогали пиявки-скупщики и прочие богатеи.
— Это мы знаем, — сморщился Барер. — Давай дело.
— Будет и дело. Мы ведь испытываем постоянную необходимость в большом количестве физического труда: нужно проводить дороги, восстанавливать разрушенные здания, чинить мосты в прифронтовой полосе и создавать условия для прохода артиллерии, конвоя, транспорта, армий.
— А при чем здесь тюрьмы? — удивился Карно. — Все это осуществляется реквизицией рабочей силы соседних районов.
— В том-то и беда. Мы отрываем ремесленников и крестьян от их постоянных, необходимых для победы работ, когда можно использовать совсем иные и немалые резервы.
— Это куда же ты клонишь? — подозрительно спросил Ленде.
— И вы еще не поняли? Тысячу лет наш народ нес тяжелую барщину в пользу господ. Почему бы теперь, когда феодализм уничтожен, бывшим господам не возместить хотя бы часть этой барщины? Вместо того чтобы кормить дармоедов-заключенных, организуйте поселения, огородите их частоколом, обеспечьте конвой, и пусть эти белоручки поработают на благо проданной ими родины!
Сен-Жюст был в ударе. Он говорил с воодушевлением. Когда он кончил, в зале воцарилась тишина.
— Я думаю, перейдем к очередным делам, — сказал Ленде.
— А мое предложение? — удивился Сен-Жюст.
Все переглянулись.
— Растолкуй-ка ему, Барер, — сказал Карно.
— Подумай, о чем ты говоришь, — затараторил Барер. — Ведь мы не вандалы. Предложенное тобой недостойно французов. Эти преступники могут быть лишены политических нрав, присуждены к смерти, но никто в свободной стране не подвергнет их пытке. А то, о чем ты говоришь, хуже пытки: их образование, воспитание, отсутствие навыков к труду, их нравы, наконец, не позволяют нам так издеваться над ними. Мы не можем позволить себе поступать так, как Марий поступал в Риме…
— Пустомели! — с презрением сказал Сен-Жюст. — Марий был государственным умом, деятелем, каким никто из вас не станет никогда. Конечно, вы можете снабжать заключенных лучше, чем солдат, защищающих родину; вы даете им возможность месяцами жить в праздности и обжираться за счет голодающего народа, а потом отрубаете им головы на гильотине. Как это мудро!.. — Он расхохотался.
— Чего тебя разбирает? — возмутился Карно.
— Ни один из вас никогда не станет государственным деятелем! — повторил Сен-Жюст. — Люди грядущего будут смеяться над вашей сентиментальностью, вашей глупостью и вашей жестокостью…
День спустя к нему подошел Бийо с каким-то листом.
— А ну подпиши.
Децимвиры, заваленные делами, часто подписывали документы но взаимному доверию, не читая. Точнее говоря, давали необходимые вторую и третью подписи тому, кто составлял документ и подписывал первым. Не вникая, Сен-Жюст сделал росчерк и собирался отдать, когда вдруг заметил, что подпись его является первой и единственной. Удержав бумагу, он стал внимательно ее читать.
— Что за черт, — сказал он, — но ведь здесь перечислены сто пятьдесят четыре человека! Их передают в Революционный трибунал?
— Это заговорщики Люксембургской тюрьмы, — уточнил Бийо.
— И все они будут казнены? — осведомился Сен-Жюст.
Бийо переглянулся с Барером и развел руками.
— Нет, я не подпишу такого.
— Но ты ведь уже подписал, — хихикнул Барер.
Сен-Жюст разорвал лист, скомкал и бросил в корзину.
Бийо безуспешно пытался ему помешать.
— Оставь, — сказал Колло, — он прав. Сегодня Эрман явно переборщил: подобный указ профанирует наказание; осудить и казнить в один день сто пятьдесят четыре человека трудно, да и у зрителей притупится восприятие.
— Есть простой выход, — сказал Бийо. — Разделим их на три партии и пропустим в три дня; тогда в среднем придется по пятьдесят человек в день, а это, как показали «красные рубахи», вполне допустимая норма.
— Верно! — обрадовался Барер.
Сен-Жюст встал и, не говоря ни слова, вышел из зала.
В этот день он записал в своем блокноте:
«Революция окоченела, все принципы ослабли; остались красные колпаки, прикрывающие интригу. Террор притупил преступление, как крепкие напитки притупляют вкус. Очевидно, еще не настало время делать добро. Частные меры — паллиатив. Нужно ждать всеобщего зла, настолько большого, чтобы общественное мнение испытало необходимость истинных мер, ведущих к добру…»
Кровавая жатва мессидора. Смерть без фраз. «В те дни, — вспоминал Фукье-Тенвиль, — головы летели, словно куски шифера». То были страшные дни агонии революции, царство «святой гильотины». За сорок пять дней Революционный трибунал вынес столько же смертных приговоров, сколько за пятнадцать предшествующих месяцев. Поскольку зал суда не мог вместить огромные партии подсудимых, занялись его быстрой перестройкой. Роковое кресло заменили рядами скамей, которые вытеснили не только зрителей, но и судей, заставив их забиться в угол зала. Быстрей, быстрей, еще быстрей. Судьба человека завершалась с такой быстротой, что дух захватывало: в пять утра его арестовывали, в семь переводили в Консьержери, в девять сообщали обвинительный акт, в десять он сидел на скамье подсудимых, в два часа дня получал приговор, в четыре оказывался обезглавленным; на всю процедуру от ареста до казни уходило менее полусуток!..
Судебные ошибки никого не волновали, заниматься ими было просто некогда. Сын погибал вместо отца, отец — вместо сына, легко путали братьев, а если у осужденного имелся однофамилец, то иной раз отправляли на гильотину и его, исходя из посылки, что виновным может оказаться любой. И вот что казалось особенно странным. «Национальная бритва» должна была снимать головы аристократам, разного рода «бывшим», представителям двух прежних привилегированных сословий, иначе говоря, врагам народа; на деле же подавляющую часть осужденных представлял сам народ, рабочие, ремесленники, вся несчастная трудовая беднота, ради которой в первую очередь развивалась и углублялась революция…
…Постепенно Сен-Жюст привык и стал подписывать эти страшные ордера, почти не читая. Он подписывал потому, что старался действовать по плану, который принял вместе с Неподкупным, и еще потому, что подписывали все, даже те, кто некогда отказался дать визу на арест Дантона. Закон 22 прериаля словно провел незримую колею, по которой шли не размышляя, ибо свернуть было некуда, а показать себя противостоящим закону значило погибнуть. Он не только подписывал, но иной раз и лично допрашивал заключенных, прежде чем отправить их в Трибунал, и его глубоко изумляла их покорность, словно бы полное равнодушие к своей судьбе. Он шел на все это, желая освободить Неподкупного от большей части бремени и ответственности и одновременно рассчитывая выиграть время, чтобы довести до конца свое расследование и сокрушить врагов прежде, чем они сокрушат революцию. Но расследованием он заниматься не мог, как не мог продолжать работы над республиканскими учреждениями, не мог потому, что не оставалось ни времени, ни сил, потому, что пришло какое-то отупение, равнодушие, из которого, казалось, выйти было уже невозможно. Временами его охватывало отчаяние. Жить не хотелось. И тогда он писал:
«Ныне молю Провидение о смерти как о благе, ибо не в силах долее оставаться свидетелем злодейских сговоров против родины и человечества. И что потеряю я с этой жалкой жизнью, в которой осужден прозябать как беспомощный очевидец, если не сообщник преступления?..»
Кровавая жатва мессидора. Смерть без фраз.
Критическим днем для него стало 2 термидора. Придя в Комитет, он застал там Бийо, Карно и Приера. Бийо только что подписал постановление Эрмана; за ним приложили руку остальные. Это был приказ, отправлявший в Трибунал 49 заключенных Кармелитской тюрьмы. Сен-Жюст давно перестал удивляться количеству жертв; он молча поставил свое имя. Смерть без фраз. Потом поднялся на второй этаж, в свое Бюро, и погрузился в бумаги. Часа через два вошел секретарь.
— Гражданин, тебя хочет видеть твоя кузина.
Он плохо знал свою боковую родню, двоюродных братьев и сестер, он едва помнил их имена.
— Как она назвалась?
— Она предъявила документы. Ее зовут гражданка Ламбер.
Он встречал нескольких Ламберов, но ни один из них не принадлежал к его родственникам. Впрочем, конечно же это фамилия ее мужа…
— Цель визита?
— Она хочет поговорить с тобой о семейных делах.
О семейных делах? Уж не с матерью ли беда?.. Они так плохо расстались тогда, в последний раз…
— Пусть войдет.
Она вошла, глядя прямо на него. Впрочем, он не увидел ее глаз: лицо «кузины» покрывала густая вуаль. Она была одета в черное, волосы прикрывал шелковый чепец.
— Кто вы?
— Вам ведь сообщили мое имя.
Голос ее показался странно знакомым. Неужели… Нет, он сразу прогнал эту мысль.
— Зачем вы солгали?
— Это не имеет значения.
Он взялся за колокольчик. Она умоляюще протянула руки.
— Подождите, прошу вас… Я уйду через пять минут. Кузиной вашей я назвалась, понимая, что иначе вы меня не примете…
— Действительно, я не принимаю просителей, для этого есть канцелярия. Но коли уж пришли, говорите.
Она не сразу заговорила. Она долго смотрела на него, так долго, что он снова потянулся к звонку. Тогда она сказала:
— Я пришла просить о справедливости.
— Выражайтесь яснее.
— Мой возлюбленный — честный патриот. Он случайно попал в группу заключенных Кармелитской тюрьмы, список которых у вас.
— Откуда вам это известно?
— Это неважно… Умоляю вас, пощадите!..
— Вы обратились не по адресу. От меня их судьба уже не зависит.
— Уже… Значит, вы подписали их передачу в Трибунал?
— Мне нечего больше сказать вам.
Она сорвала вуаль и сбросила чепец. Золотые локоны рассыпались по плечам.
— Тереза!..
Она заломила руки в отчаянии.
— Антуан, умоляю во имя нашей былой любви, помоги мне… Спаси его, и мы оба будем благословлять тебя всю жизнь!..
— Но я правда же ничего не могу сделать. Я бессилен…
Глаза ее сверкнули ненавистью.
— Я знала, что ты так ответишь. Ты всегда был бесчувственным, холодным как лед. Все вы злодеи и кровопийцы, не знающие пощады! Я проклинаю вас, палачи, и тебя, тебя в первую очередь!..
— Ты сама хочешь угодить на гильотину?
— Но раньше погибнешь ты, негодяй!
— Ты пришла, чтобы убить меня?
— Да. — В руке ее сверкнул нож, выхваченный из-за корсажа.
Он рванул рубашку. «И что потеряю я с этой жалкой жизнью, в которой осужден прозябать, как беспомощный очевидец, если не сообщник преступления?..»
— Вот моя грудь, пронзи ее…
Она отпрянула.
— Нет, не могу. Ведь я любила тебя… — Нож покатился по ковру. — Звони же, подлец, пусть меня схватят, и я умру с ним…
Сен-Жюст вдруг пошатнулся и упал на колени.
— Прости меня, Тереза, прости за все зло, что я причинил тебе. Прости за себя, за своего любовника, за разрушенное счастье… Сейчас тяжелое время. Но оно пройдет. И ты еще будешь счастлива…
Она стояла застывшая и немая, с широко раскрытыми глазами.
— Иди же с богом, — тихо сказал он. — Больше я ничего не могу для тебя сделать…
Он слышал, как она быстро шла по коридору, потом по лестнице, и вот стук ее каблуков совсем стих. А затем вдруг раздались другие шаги. Вошел Лежен. Мгновенно охватив взглядом коленопреклоненного и нож, валявшийся на полу, он дико завопил:
— Держите убийцу!
— Стой! — воскликнул Сен-Жюст. — Не смейте трогать ее!..
Гражданку Ламбер не догнали. Но Лежен поспешил спуститься в Комитет и обо всем рассказал Колло. И Колло тут же составил приказ, в который вложил всю ненависть к Сен-Жюсту: «Настоящим предписывается по просьбе гражданина Сен-Жюста арестовать и отправить в Революционный трибунал женщину, назвавшую себя Ламбер, поскольку она пыталась убить названного гражданина».
Прочтя приказ, Сен-Жюст нахмурился.
— Ведь я же ни о чем не просил тебя, Колло.
— Ты или твой Лежен — какая разница, — ухмыльнулся Колло.
Узнав обо всем, Бийо-Варенн смеялся до упаду:
— Лавры Марата ему, как и Робеспьеру, не дают спать… Тот откопал где-то маленькую Рено, этот нашел крошку Ламбер…
Он же был невозмутим. Не имея возможности отменить приказ, он вычеркнул слова «и отправить в Революционный трибунал». Пусть, по крайней мере, несчастной не угрожает смерть…
Это событие произвело в нем перелом. Словно сбросив с глаз пелену, он вышел из оцепенения, в котором пребывал вторую половину мессидора. И отныне никакие угрозы или увещевания не могли заставить его прикладывать руку к убийственным приказам. В начале термидора появился список, предающий Трибуналу 14 «мятежников»; Сен-Жюст его не подписал. Затем последовал список в 48 человек; и под этим не оказалось его подписи. Наконец, в Революционный трибунал направили сразу 300 человек; это постановление стало кульминацией «великого террора». И его Сен-Жюст отказался визировать. Он вдруг почувствовал себя необыкновенно легко. Нет, враги не сломили и не сломят его волю. Вместе с Робеспьером и Кутоном он выведет республику из кровавого кризиса. И не во имя смерти, как желают они, а во имя жизни, новой жизни. Но для этого нужно жить. И он записал в своем блокноте: «Не следует, чтобы защитники истины погибали, борясь за общее благо с софизмами преступлений. Хорошо сказать, что они умерли за родину; но еще лучше, чтобы они жили и законы поддерживали их. Возьмите же их под защиту от мести Иностранца!..»
33
Портрет медленно подвигался. И теперь у Антуана хватало времени не только чтобы позировать Полине. Перестав дневать и ночевать во Дворце равенства, он вновь занимался гимнастикой, по утрам скакал в Булонском лесу, вечера же зачастую проводил у Дюпле. Правда, ныне на «четвергах» собирались иные люди, чем прежде. Не было честного Буонарроти: делегированный в нивозе на юг Франции, он участвовал в освобождении Тулона, а затем в качестве комиссара Конвента отбыл на Корсику. Почти не появлялся Давид, занятый своими многообразными обязанностями. Завсегдатаями салона стали новые хозяева ратуши: национальный агент Пейян, вытеснивший Сиейса из советников Неподкупного, и мэр Парижа, скромный и молчаливый Леско-Флерио. Морис Дюпле, сделавшись присяжным Революционного трибунала, приводил своих новых коллег, и теперь сюда часто захаживал Эрман со своими заместителями — Дюма и Коффиналем. Бывали и другие соратники Максимильена из числа «проверенных патриотов» его списка: типограф Николя, слесарь Дидье, сапожник Каландини. Со всеми этими людьми Антуан был мало знаком и не собирался сходиться теснее. Поэтому, придя в салон и поболтав с Элизой, он почти сразу же поднимался к Робеспьеру, с которым просиживал долгие часы.
Хотя Робеспьер перестал посещать Комитет общественного спасения, он и не думал уклоняться от борьбы. Он перенес свою деятельность в Якобинский клуб, где его по-прежнему боготворили и откуда его голос был слышен всей Франции. Кроме того, к великому неудовольствию Барера, он продолжал заниматься внешнеполитическими проблемами. И наконец, используя агентуру Бюро общей полиции, он тщательно фильтровал подозрительных депутатов Конвента, наполняя свои папки новыми материалами о взяточничестве, казнокрадстве и прочих противозаконных делах. Сегодня, показывая эти материалы Сен-Жюсту, он едва сдерживал негодование.
— Подумать только, ведь все эти «уважаемые» члены Конвента — злодеи, воры и лихоимцы. Тальен использовал террор для личного обогащения; связавшись с дельцами и ажиотерами Бордо, он грабил город, захватывая и присваивая под видом «реквизиций» драгоценные камни, золото, серебро… Фрерон и Баррас, когда после отозвания из Марселя им было предложено внести в казначейство подотчетные восемьсот тысяч ливров, подали бумагу о том, что их экипаж опрокинулся в канаву, а деньги исчезли… И двуличный Камбон покрыл их…
— О Камбоне разговор особый, — как бы про себя заметил Сен-Жюст.
— Они ненавидят меня лютой ненавистью, — продолжал Робеспьер. — Едва я рискнул арестовать подругу Тальена, авантюристку и шлюху Кабаррюс, как совершили два покушения на меня, а через день презренный Лекуантр призывал убить «тирана Робеспьера».
— Лекуантр — сумасшедший.
— Это не меняет дела. Ближайшее их окружение — такие же хищники: грубый Бурдон, вероломный Мерлен, коварный Лежандр, предприимчивый Ровер… И заметь: будучи умеренными, все они восхваляют террор, восхваляют и дискредитируют его, как и все Революционное правительство… И все же самый опасный из них — Фуше…
Робеспьер замолчал. И он, и Сен-Жюст думали об одном.
Жозеф Фуше… Невзрачный субъект со студенистым лицом и слабым голосом, зачинатель «дехристианизации», лионский палач, отозванный в жерминале по предложению Неподкупного, ныне центр всех интриг… Напуганный и озлобленный, спасая собственную шкуру, этот оборотень сумел связать группу Тальена с остатками ультра. Фуше втерся в доверие к Колло, а значит, и к Бийо, завязал тесные отношения с Карье, Вадье и Камбоном и фактически опутал сетью правительство.
— Не будем преувеличивать, — сказал вдруг Робеспьер, словно отвечая на их общие мысли. — Я разоблачил негодяя у Якобинцев и добился того, что его вышвырнули из Клуба… А теперь хочешь развлечься? С именем Фуше связана амурная история, и какая!
Сен-Жюст посмотрел на друга с изумлением.
— Одно время этот альбинос зачастил к Дюпле. Думаешь почему?
— Влюбился в Элизу?
— Не угадал.
— В Элеонору?
— Так же холодно.
— Уж не в гражданку ли Дюпле?
— Честный столяр отрезал бы ему уши. Нет.
— Кажется, перебрал всех.
— Эх ты, отгадчик… Он был влюблен в мою сестру.
— В Шарлотту?
— Другой сестры у меня нет.
— Врешь… Не может быть… — И Сен-Жюст вдруг залился неудержимым хохотом. Робеспьер вторил ему.
— Уморил, — наконец остановился Сен-Жюст. — Ну рассказывай.
— А что рассказывать? Стал бывать у нас, засиживался… Она млела… Одним словом, вскружил голову бедной девушке. И однажды Шарлотта попросила моего благословения.
— И ты?
— Я дал. А потом он уехал в Лион, где скомпрометировал наше дело. И, естественно, все распалось.
— Бедная Шарлотта.
— Она родилась в рубашке. Представляю, каково бы ей было с этой медузой… Ты ведь понимаешь, он затеял сватовство, пытаясь найти путь ко мне. Не удалось. Что же теперь ему осталось? Вот он и нашептывает сегодня одному, завтра другому: «Ты в проскрипционном списке Робеспьера».
— Послушай, а если говорить серьезно, есть такой список?
— Конечно нет, — возмущенно ответил Робеспьер.
— Так не худо бы составить. Ведь ты пунктуален и любишь порядок во всем; есть же у тебя список «проверенных патриотов», — надо иметь и список «проверенных врагов».
— Ты язва; однако невольно напомнил об одной любопытной истории с Барером, она касается списков. Тебе известно, что он держит дом терпимости в Клиши, где обменивается девками со своими компаньонами? Там бывают Дюпен, Вулан, Вадье…
— Я знаю все это.
— А я, представь, не знал. Но когда узнал, не выдержал. Двадцать первого мессидора в Клубе, взяв под обстрел Комитет Вадье, я ударил и по Бареру, не называя его имени… Он был председателем в тот вечер. Скис совершенно и ушел до конца заседания… Вилат, который ушел вместе с ним, потом сообщил мне кое-какие подробности. Он рассказал, что в Комитете, куда они зашли, Барер рухнул в кресло и пробормотал: «Я ненавижу людей. Если бы мне дали пистолет… Теперь я признаю лишь бога и природу…»
— Ты приведешь его к нравственной жизни. Но где же соль?
— Как обычно, в конце. По словам Вилата, якобы спросившего: «Какой смысл ему тебя атаковать?», Барер ответил: «Этот Робеспьер ненасытен, он требует новых жертв; если бы речь шла только о Тюрио, Гюффруа, Ровере, Лекуантре, Панисе, Камбоне, Менестье, мы бы согласились; требуй он сверх того Тальена, Бурдона из Уазы, Лежандра, Фрерона — в добрый час; но Дюваль, но Адуен, но Леонар Бурдон, Вадье, Вулан — в этом невозможно ему уступить».
— Ты называл ему эти фамилии?
— Никогда в жизни.
— Превосходно. Значит, он понимает все сам, да и не он один. Если добавить к названным именам Фуше, то списочек получится точный… И с большей частью помещенных в нем они уже согласны разделаться… Ты сообщил мне очень важные факты. Итак, вспомним альтернативу, которую мы наметили во время одной из наших встреч: действовать на Конвент через Комитет либо на Комитет через Конвент. В тот раз ты уверял, что число негодяев в Конвенте невелико; я усомнился в этом и, как показало твое же расследование, был прав; список Барера подтверждает это. Но здесь есть еще аспект, — пожалуй, самый важный. Ведь твой прериальский закон имел целью уничтожить прежде всего теплую компанию в Конвенте?
— Допустим.
— Но ее можно уничтожить лишь в том случае, если этого пожелает правительство, в первую очередь, наш Комитет. Ибо речь идет о депутатах Конвента, которых может дезавуировать и арестовать только Комитет общественного спасения.
— Ты прав.
— Но в Комитете мы в меньшинстве, остальные же либо равнодушные, либо интриганы, либо враги. А если так, значит, закон двадцать второго прериаля на пользу революции действовать не может: враги используют интриганов, жмут на равнодушных и вместо того, чтобы уничтожать преступников, уничтожают невинных — простых людей, санкюлотов, вину же за это возлагают на тебя, на автора закона. Наши шансы идут на убыль, пока не опустятся до нуля.
— Что же ты предлагаешь? — спросил Робеспьер.
— Дополнить и уточнить твой план.
— И чем же план Сен-Жюста будет отличаться от плана Робеспьера?
— Повторяю, он останется тем же, но с учетом кое-каких деталей. После того, что мы только что выяснили, наметился единственный реальный выход: необходимо поладить с комитетами. И добиться, чтобы они пошли на уничтожение оппозиции в Конвенте. Если это произойдет, закон сработает, депутаты-изменники погибнут, а уж после этого, опираясь на обновленный Конвент, можно будет взяться и за комитеты.
— Но каким же образом мы можем «поладить» с комитетами?
— Прикинем. Нас трое: ты, я и Кутон. Полностью непримиримые в нашем Комитете лишь двое: Бийо и Колло. Жанбон Сен-Андре нам не враг; Ленде, Карно и оба Приера, умеренные, пойдут на переговоры и могут быть привлечены. Что касается Барера, то рассказанная тобою история о списке вполне выявляет его позицию: если нам удастся объединиться с пятью, он, всегда идущий за большинством, обязательно будет с нами. В таком случае двое непримиримых окажутся изолированными. И тогда головы депутатов-предателей падут. Таков общий план. Не думаю, что его так уж легко провести в жизнь: наверняка встретятся препятствия, прежде всего с Комитетом общей безопасности. Но это наш единственный шанс; используем его — победим, упустим — погибнем.
Робеспьер с сомнением посмотрел на друга.
— С чего же ты предлагаешь начать?
— На четвертое термидора созовем оба Комитета. Ты прибудешь как ни в чем не бывало. Поддерживай меня, чтó бы я ни говорил. Всеми силами избегай углубления конфликта. Остальное предоставь мне.
Робеспьер утвердительно кивнул, но тень сомнения с его лица не исчезла.
34
Они собрались к вечеру, рассчитывая на всю ночь, оба Комитета в полном составе; явился и Робеспьер, вызванный особым решением. Все смотрят друг на друга, словно впервые встретились. Что-то подсказывает им: предстоят необыкновенный вечер и необыкновенная ночь, сулящие, быть может, начало новой эры; но каждый чувствует себя одиноким, находящимся под смертельной угрозой и вынужден собрать все силы духа, чтобы защитить и обезопасить себя. Это понимает Сен-Жюст. Выступление его готово, но он хочет дать высказаться им, чтобы схватить направление разговора и уловить степень враждебности; однако это понимают и они и тоже не спешат; молчание нависает, как дамоклов меч.
Но вот, оглянувшись по сторонам, начинает Барер. Речь его невнятна и упреки безличны; но хотя имя не названо, всем понятно, в кого они метят. Да, работа правительства нарушена, но лишь потому, что некоторые члены правительства уклоняются от исполнения обязанностей; да, террор не всегда применяется должным образом, но лишь потому, что некоторые члены правительства проводят непродуманные законы; впрочем, если эти члены правительства признают свои ошибки… и так далее.
Встает Робеспьер. Он напоминает, что и до его ухода дела шли не лучше. Разве реализованы благодетельные вантозские декреты? Разве созданы четыре комиссии, чтобы отделить преступников от невиновных и освободить патриотов? Террор и добродетель — две стороны целого, и если террор действует, а добродетель исчезла, чего же ждать?..
Колло подхватывает перчатку. Он громит «презренных интриганов», добивающихся неслыханного расширения террора, но относящих это за счет тех, кто сопротивляется их жестокости. Слышатся одобрительные возгласы.
Вадье возмущен задержкой дела Катрин Тео; Амар и Вулан обвиняют Робеспьера в превышении полномочий.
— Это я превышаю полномочия? — с гневом восклицает Робеспьер. — Да я вот уже шесть недель не появляюсь на вашей грязной кухне! — Побледнев, он встает, собираясь уйти. Сен-Жюст кладет ему руку на плечо, заставляя сесть. Он призывает к спокойствию. И столько властности в его жесте, столько горделивого величия в холодном лице, что все смолкают. Тогда он начинает речь.
Враги спят и видят крушение нынешнего режима во Франции. О близком падении республики предупреждают агенты и послы иностранных государств…
Внимательно оглядев присутствующих, он повысил голос:
— Зло достигло кульминации; оно ведет нас к анархии чувств и воли. Конвент наводнил страну невыполненными, а то и невыполнимыми декретами. Комиссары при армиях транжирят национальные богатства и не думают о победах. Представители на местах узурпируют власть и скупают золото. Как прекратить эти нарушения, как ликвидировать беспорядок в жизни республики, как добиться соблюдения законов? Я вижу одно лишь средство — создание прочных республиканских учреждений. Но пока их нет, необходимо единство правительственных средств, сочетание национальной энергии с политическими мерами, которые в древности умели так мудро применять…
Сен-Жюст замолчал. Раздались крики: «Говори яснее!», «Что ты имеешь в виду?», «Объясни, чего ты хочешь!»
— Прекрасно, я объясню. Наши комитеты сделали много для торжества республики. Но власть их, нарушаемая склоками, личной злобой, борьбой честолюбий, явно недостаточна. Нам нужна иная, более надежная и действенная сила.
— Личная диктатура? — злобно спросил Колло.
— Нет. Режим Суллы и Цезаря мне отвратителен, как и вам. Но есть иная форма власти, кратковременная, гибкая и подлинно народная, — патриотическая группа во главе с достойным гражданином. Это цензура. В отличие от диктатуры, она внушает страх не управляемым, а управляющим, не народу, а правительству. Она сводится к проверке и перестройке всех органов республики на истинно демократических началах. Она в конечном итоге и приведет нас к республиканским учреждениям.
Все сидели воды в рот набрав. Бийо чуть улыбался. Колло был красен как рак. Вадье растерянно вертел головой. Вулан и Амар смотрели друг на друга. Остальные не скрывали удивления.
— Я вижу, вы поняли меня, — продолжал Сен-Жюст. — Остается вопрос о главном цензоре. Нужен человек, который обладал бы умом, силой, патриотизмом и духовным благородством; он должен быть до самозабвения предан революции, ее принципам и целям, свободе и безопасности народа; он должен олицетворять добродетель, твердость и неподкупность, дабы снискать полное доверие граждан. Есть ли среди нас тот, кто обладал бы всеми этими качествами?
Оратор не ждал ответа, он ответил сам:
— Да, вы знаете, он есть. Это Робеспьер. Предлагаю, чтобы он был немедленно инвестирован должностью верховного цензора. Завтра объединенные комитеты сделают об этом представление Конвенту.
Пока Сен-Жюст говорил, Неподкупный, все поняв, вскочил и нервно зашагал по залу. Теперь, прежде чем кто-либо раскрыл рот, он возмущенно воскликнул:
— Кто мог внушить тебе подобную мысль, Сен-Жюст? Общее руководство нам необходимо, я понимаю это не хуже тебя. Но чем отличается твоя цензура от диктатуры? К тому же в Конвенте есть и помимо меня депутаты, достойные занять высокий пост.
Сен-Жюст чуть не задохнулся от ярости и досады. «Черт бы тебя побрал! — думал он. — Напыщенный резонер, перед кем ты излагаешь свои принципы? И в какой момент! Ты испортил все, дал им очнуться и нанести нам удар в спину!»
Члены комитетов и правда стали приходить в себя.
— Что-то ты уж больно спешишь, Сен-Жюст, — сказал Вадье. — Нам еще нужно разобраться во всей этой чертовщине.
— Конечно, — поддакнул Вулан, — что это еще за цензура?
— Робеспьер прав, — злорадно заметил Колло. — В Конвенте есть более достойные. А его репутация сильно подмочена…
Робеспьер стал как вкопанный и сверкнул глазами.
— Зря ты волнуешься, — ухмыльнулся Бийо. — Мы ведь друзья.
«Подлый лицемер, — подумал Сен-Жюст, — ты добиваешь его».
Действительно, Робеспьер круто повернулся и выбежал из зала.
— Спасайте республику без меня! — крикнул он в дверях.
— Уноси ноги, Пизистрат, — тихо и злобно процедил Бийо.
«Кончено, — подумал Сен-Жюст. — Рухнуло и разбилось вдребезги. Но так просто я вам не дамся».
— Граждане, — спокойно проговорил он, — вопрос о цензуре не снят, но вам, очевидно, нужны уточнения и время для раздумий. Ведь сегодня предстоит еще говорить о многом…
— Отложим это, — подхватил Барер. — Но поскольку ты, Сен-Жюст, так хорошо разобрался в наших делах, я полагаю, что выражу общее мнение, предложив тебе быть составителем доклада о положении республики, который нужно вынести в Конвент к девятому термидора.
— Согласен с Барером, — сказал, чуть подумав, Бийо.
«Что это — подачка, ловушка или доверие? — спросил себя Сен-Жюст. — Но что бы это ни было, пренебрегать нельзя. Однажды я отказался от доклада и потом кусал себе локти. Нельзя повторять ту же ошибку».
— Я не вступаю в союз со злом, — сказал он. — На моих глазах все меняется, но я внимательно изучу происходящее. И дам отпор всему, что непохоже на любовь к народу и свободе…
…Когда он уходил с заседания, а было уже утро 5 термидора, все представлялось ему если не улаженным, то и не безнадежным. Неподкупный сильно испортил дело, но это касалось в первую очередь его самого. Кутон, Леба и Давид держались молодцами. Карно и Ленде в драку не полезли. Барер вел себя почти как союзник. Даже Бийо не обнаружил враждебности к нему, Сен-Жюсту. В конце концов, вольно или невольно, Сен-Жюст попадал в положение арбитра между Робеспьером и остальными. Что ж, это надо использовать и еще раз попытаться спасти положение.
Немного отдохнув, он отправился к Дюпле. Элиза выглядела разбитой. Она жаловалась на мужа:
— Ты знаешь, что сказал он мне утром, вернувшись из ваших комитетов? «Элиза, если бы у нас не было ребенка, я пустил бы тебе пулю в лоб, а потом покончил с собою». Подумай, каково мне это слышать…
Пока Сен-Жюст успокаивал ее, вошла хозяйка. Вид у гражданки Дюпле был угрожающий.
— Послушай, Флорель, — сказала она, — что означает твое странное поведение? Ты держишь себя так, что не понять, за Робеспьера ты или против него…
«Уже излился, и кому?» — огорченно подумал Сен-Жюст.
— Скоро вы всё поймете, — бросил он женщинам, поднимаясь к Неподкупному.
Неподкупный принял его плохо: сначала совсем не хотел разговаривать, потом осыпал упреками.
— Ты нарушил нашу договоренность и сам испортил все дело, — парировал Сен-Жюст.
— Сам виноват. Мог бы заранее сказать, о чем будешь вести речь. Мы не должны идти на попрание принципов.
— Принципов? Ты забыл, очевидно, что есть стратегия, а есть и тактика.
Робеспьер прищурился.
— Никуда не годится тактика, идущая вразрез с убеждениями. Не нужна мне твоя «цензура». Да и расчеты твои неверны. О чем говорить в комитетах? Я пойду прямо к державному народу. Конвент чист, и он выслушает меня.
— Еще бы… Конвент «чист», в нем есть такие славные ребята, как Фуше, Тальен, оба Бурдона, умалишенный Лекуантр и верный Сиейс…
— Не поминай Сиейса. И вообще не надо быть злым.
— Я добрый… Ты серьезно думаешь выступать в Конвенте?
— Да.
— Скажи хоть, о чем намерен говорить.
— А ты сказал мне, о чем был намерен говорить в комитетах?..
Понимая, что здесь ничего не добьется, Сен-Жюст махнул рукой и решил отправиться во Дворец равенства.
Улица была полна народу; что-то оживленно обсуждали. Он прислушался. Среди группы санкюлотов витийствовал молодец в фартуке:
— Они хотят, чтобы мы околели! Мало того, что нет жратвы, что цены растут, они вздумали понижать заработную плату!
— Верно говоришь, — ответил кто-то из толпы, — наше Революционное правительство забыло, что революция для народа!
— Плевать им на народ!
— Чертов максимум! Сдохли бы те, кто его выдумал!
— Так мы ничего не добьемся, — поучал детина в фартуке. — Надо действовать всем сообща, надо идти в Конвент!
Кто-то свистнул:
— Всем сообща? В предбанник к Фукье захотел?
— Что-что, а гильотинировать они наловчились…
— Тихо, дурачье, шпики кругом!
— Плевал я на шпиков.
— Вот плюнешь собственной головой в корзину, тогда узнаешь!
— Тогда-то уж ничего не узнаю. Узнать бы сейчас…
«Вот оно, продолжение „братских трапез“», — подумал Сен-Жюст. Продравшись сквозь толпу, он заметил таблицы, расклеенные по стенам домов, и сразу все понял. Еще 17 мессидора Коммуна утвердила новые ставки заработной платы; сегодня наконец их вывесили. Он подошел к одной из таблиц. Благодаря изумительной памяти он, долго работавший с Ленде, знал и помнил вантозские ставки максимума и теперь мог сравнить. Да, получалось не очень складно. Поденная заработная плата чернорабочего понижалась в полтора раза, каменотеса — почти в два, плотника — в два; еще хуже дело обстояло с рабочими оружейных мастерских: здесь у кузнецов, литейщиков и формовщиков оплата труда понижалась в среднем в три раза!
«Пейян считается умным человеком, — подумал Сен-Жюст. — Небольшим же умом нужно обладать, чтобы догадаться сделать это именно теперь, в дни, которые могут стать для нас всех роковыми».
Впрочем, у него была своя забота — доклад. Он понимал, что от доклада зависит многое, и прежде всего единство правительства, которое сейчас абсолютно необходимо. Еще не начав писать, он твердо решил, что в докладе не должно быть личных выпадов, никаких уколов и имен, только принципы. Два дня, отгородившись от мира, посвятил он докладу, а доклада не было. Были мысли, наброски, фрагменты; слепить же единое целое никак не удавалось. И это временами приводило в отчаяние, ибо начинало казаться, что и на деле, в жизни, есть много важных начинаний, реформ, перестроек, а где же оно, единое целое? И удастся ли его создать?..
…Он готов был посвятить докладу и третий день, но третий день приходился на 8 термидора, когда Неподкупный должен был читать в Конвенте свою таинственную речь, а услышать эту речь ему, Сен-Жюсту, было совершенно необходимо.
В председательском кресле — Колло. На ораторской трибуне Робеспьер. Сен-Жюст на своем обычном месте, рядом с Кутоном. Уже скоро час, как раздается глухое, монотонное чтение. Оно будет продолжаться еще час, но это ничего не изменит: и теперь вполне ясно, что речь не удалась.
Нет, речь не была ординарной. В ней оказалось много сильных, проникновенных мест. Через всю речь проходила мысль о великой опасности, угрожавшей республике. Но казалось, что в этих случаях оратор обращается не к депутатам Конвента, а к потомству: слишком широки были его формулировки, слишком эпичны призывы. Словно предвосхищая доклад Сен-Жюста, он стремился ограничиться общими принципами, — и тут Антуан вдруг понял, почему не смог составить свой доклад… Среди прочего Робеспьер много говорил о себе. Сетовал, жаловался на то, что остался непонятым и гонимым. Подобные пассажи чередовались с глухими угрозами, и при многократном повторении это утомляло. Произнося угрозы, оратор не называл имен; многие могли принять на свой счет то, что относилось к другим или не относилось ни к кому, являясь чисто риторической фигурой. И однако, не называя имен, которые, быть может, следовало назвать, Максимильен огласил имя Камбона, оглашать которое вовсе не следовало. Главная же оплошность оказалась в конце. Горячо призывая к чистке комитетов и «наказанию предателей», опять-таки без всяких личностных уточнений, оратор словно не понял, что при сложившемся соотношении сил в «предатели» попадал как раз он сам.
И все же речь произвела впечатление на врагов. Лекуантр, к крайнему удивлению Сен-Жюста, предложил даже, чтобы она была напечатана. Кутон добавил, что оттиски речи следует разослать всем коммунам республики. Конвент принял оба предложения.
Но вскоре многие опомнились. Один за другим выступили Вадье, Камбон и Бийо.
— Пора сказать правду! — воскликнул Камбон. — Один человек парализует волю Конвента; этот человек Робеспьер!
Бийо, ободренный словами Камбона, требует, чтобы до опубликования речь пошла на проверку в комитеты.
— Как? — возмущен Робеспьер. — Проверять будут те, кого я обвиняю?
— А кого ты обвиняешь? — ехидно спрашивает Бийо. И тут со всех сторон раздается: «Назови!», «Назови имена, лицемер!..»
Но Робеспьер молчит. Вместо него поднимается Амар.
— Речь Робеспьера, — говорит он, — обвиняет оба Комитета. Если его суждение о членах комитетов связано с интересами государства, пусть назовет их; если же оно носит частный характер, Конвент не станет заниматься вопросами оскорбленного самолюбия.
«Что можешь ты ответить на это?» — думает Сен-Жюст. Но Робеспьер не произносит ни слова. И тогда Конвент отменяет свое первоначальное решение о его речи.
— Я погиб! — шепчет Робеспьер, садясь рядом с Сен-Жюстом.
— Ты упорно стремишься к этому, — так же отвечает ему Сен-Жюст, — но мы еще поборемся, и чья возьмет — пока неизвестно!..
Робеспьер проиграл кампанию в Конвенте — это было очевидно. По мнению Сен-Жюста, Максимильен сделал две роковые ошибки: первую, позволив себе напасть на комитеты, не называя имен, и вторую, обвинив Камбона. Собственно, о махинациях Камбона Робеспьеру рассказал Сен-Жюст, прося сохранить это в тайне; Антуан собирался разоблачить Камбона в связи с иностранным заговором, когда будет обладать непреложными доказательствами. Неподкупный же не сдержал слова, преждевременно раздразнил зверя и не только испортил затею Сен-Жюста, но и сам тут же пожал горькие плоды. Сен-Жюст понял, что его наброски доклада не годятся, — они могут быть оставлены для потомства, но ничего не дадут сейчас, когда страсти накалены. Нет, выявление принципов теперь не поможет. Теперь единственное спасение — взять под защиту Максимильена, объяснить причины его высказываний и поступков и предложить мир. Он постарается доказать, что основы для вражды и непримиримости нет. Используя свое невольное положение арбитра, он приложит все силы, чтобы снова объединить децимвиров. Но речь, которую он произнесет сначала в комитетах, потом в Конвенте 9 термидора, не будет безличной: он назовет тех двоих, которые давно мутят воду, и ценой осуждения их добьется полного единства правительства. Конвент поддержит его, услышав вместо неопределенных и глухих угроз Робеспьера здравые мысли, призыв к умиротворению и выходу из террора — то, о чем мечтают все французы. И тогда жалкая кучка врагов и злопыхателей будет не страшна: за ней никто не пойдет, она утонет в общем единении и братстве, растворится, исчезнет…
Таков был новый план Сен-Жюста. А Робеспьер… Робеспьер продолжал действовать по-своему.
Потерпев фиаско в. Конвенте, Неподкупный решил перенести арену борьбы в свою цитадель — в Якобинский клуб. Сен-Жюст уже больше года не посещал заседаний Клуба. И однако, желая быть рядом с Робеспьером, на этот раз он явился. Заседание было в разгаре; Робеспьер заканчивал чтение речи, произнесенной утром в Конвенте. Здесь она была принята совершенно иначе. Бросив листки на стол и дождавшись, пока стихнут аплодисменты, Неподкупный сказал:
— Братья, это — мое завещание. Сегодня я видел союз бандитов; число их так велико, что вряд ли я избегну мести. Погибая без сожаления, завещаю хранить память мою; вы сумеете ее защитить…
Рукоплескания возобновились. «Братья», вскакивая с мест, поднимали руки в знак торжественной клятвы. Нет! Они не допустят! Никто не посмеет угрожать Неподкупному! Они все умрут за него!..
Неподкупный оглядел собрание. Высоко подняв голову, воскликнул:
— Вы так верны мне; хорошо, я скажу главное. Освободите Конвент от угрожающих ему негодяев; идите, действуйте, как в дни тридцать первого мая — второго июня. Не медлите, спасайте свободу!..
«Ого! Ты призываешь к восстанию! — подумал Сен-Жюст. — Это на тебя так непохоже… Что это? Жест отчаяния? Вспомни Эбера!..»
Робеспьер словно угадал его мысли.
— А если свобода погибнет, друзья, останется выпить цикуту…
— Я выпью ее вместе с тобой! — восторженно кричит Давид.
«Не те слова, — думает Сен-Жюст, — совсем ничего не понял».
Зато другие поняли прекрасно. Колло и Бийо спешат к трибуне. Но на трибуне уже Дюма; он обличает обоих, и зал вторит ему. Колло, расталкивая стоящих на пути, пытается говорить; а в Бийо уже вцепилась добрая дюжина рук…
…Он не стал задерживаться у Якобинцев. Едва Колло, с трудом протиснувшийся к трибуне, возвысил голос, а вокруг, словно по команде, начались шиканье и свист, он встал и вышел: жаль было драгоценного времени…
35
…Он еще говорит, но можно бы и замолчать, ибо через момент замолчать все равно придется. Вдоль прохода мчится Тальен. Лицо его потно, глаза сверкают. Он приближается быстро и неотвратимо, сверкающие глаза становятся больше и больше и наконец закрывают все. Вот он тигром вскакивает на трибуну и громко кричит, перебивая оратора на середине фразы:
— Я требую слова к порядку заседания!
Сен-Жюст замечает метнувшийся отчаянный взгляд Робеспьера, думает, стоит ли спорить и сопротивляться. Потом собирает листы речи и складывает руки на груди.
В течение последующих пяти часов, пока происходило все это, он стоял точно изваяние — с презрительной улыбкой на устах и отсутствующим взглядом. Со стороны могло показаться, что он впал в некое подобие летаргии, что он ничего уже больше не видит и не слышит. Но он все видел и слышал. И до самого конца оставался таким же бездеятельным и бессловесным, не приняв никакого участия в борьбе.
Почему? Почему не пытался он протестовать против нарушения порядка и не одернул нарушителя, хотя, казалось бы, легко мог это сделать: громким и властным был лишь первый выкрик Тальена, а потом он захлебнулся, выдохся и охрип раньше, чем сказал все, что хотел? Почему на долгие часы предпочел он погрузиться в миражи, в бесполезные, пустые воспоминания, вместо того чтобы действовать, он, Сен-Жюст, железный децимвир, непримиримый враг нерешительности, некогда так молниеносно сокрушивший контрреволюцию в Эльзасе, бестрепетно поразивший насмерть Эбера и Дантона, он, неизменный триумфатор на поле брани, прославленный победитель при Ландау и Флерюсе, одним словом, подлинный человек действия?
Почему? Да именно потому, что в качестве человека действия он только что понял твердо и бесповоротно: робеспьеристы проиграли кампанию, проиграли окончательно, и никакие запоздалые «действия» теперь уже ничего не исправят.
Ведь с начала термидора обстоятельства поставили Сен-Жюста как бы арбитром между Робеспьером и комитетами; желая всемерно использовать это положение, чтобы осилить врагов, он из тактических соображений решил прежде всего подчеркнуть свою беспристрастность и начал речь 9 термидора такими словами: «Я не принадлежу ни к какой клике; я буду бороться с каждой из них». Но Тальен, поняв его уловку, прерывая его, сделал выпад именно против этого утверждения и сразу поставил Сен-Жюста на одну доску с Робеспьером: «Вчера некий член правительства… произнес речь от своего имени; сегодня другой поступает точно так же… Я требую, чтобы завеса наконец была сорвана!» Эти слова делали неоспоримым то, что Сен-Жюст уже достаточно ясно понял, едва появился в зале заседаний; он, человек действия, мгновенно оценил действия врагов, те, которые видел, и те, о которых догадывался, — он понял, что конвентские группы, Гора и «болото», сумели договориться в течение ночи, что Фуше и Сиейс сплели против Робеспьера сеть, которую разорвать не удастся.
Он ошибочно думал прежде, что главные их враги — Бийо и Колло, но в действительности Бийо и Колло сами одурачены, сами попали в плен к наследникам Дантона, ко всем этим сиейсам, тальенам и баррасам, богачам и спекулянтам, скрывающим свои аферы под лживой маской санкюлотизма, к беспощадным душителям Неподкупного, беспощадным, поскольку сами они растленны и продажны и неподкупность равнозначна для них смертному приговору. Идея арбитража и связанные с нею надежды рассеивались.
Казалось, оставался еще один выход. На него ясно намекнул Барер. Он очень громко сказал Бийо, спешившему сменить Тальена на трибуне, так громко, чтобы Сен-Жюст услышал его слова, и Сен-Жюст услышал их:
— Ограничься Робеспьером; не трогай Сен-Жюста!..
И Бийо действительно не тронул Сен-Жюста, сосредоточив весь огонь выступления на Робеспьере; не тронули его и другие противники, говорившие после Бийо, в том числе и сам Барер. Казалось, децимвиры бросали ему якорь спасения: ухватись за него Сен-Жюст, отрекись он от Неподкупного, заклейми его, как клеймили Бийо, Тальен, Вадье, — и он сохранил бы не только жизнь, но, возможно, и положение в правительстве. Однако сделать это Сен-Жюст не мог. Робеспьер был его другом, он любил Неподкупного и был готов отдать за него жизнь; но сохранить жизнь ценой предательства… Нет, на такое он был не способен. И поэтому ему лишь оставалось стоять, скрестив руки на груди, презрительно улыбаться и делать вид, будто все происходящее в зале не имеет к нему ни малейшего отношения.
А зал продолжал бушевать, И если Сен-Жюст, который все понял, гордо застыл в ледяном спокойствии, то Робеспьер, который не хотел верить очевидному, рвался в бой закусив удила.
Первый раз он устремился к трибуне после слов Бийо о «предателях». Его оттеснили. Раздались крики: «Долой тирана!» А на трибуне, рядом с Сен-Жюстом, снова возник Тальен, размахивая кинжалом и обещая поразить «нового Кромвеля».
Второй раз Неподкупный рванулся после принятия декрета об аресте Анрио и его штаба. И опять крики «Долой тирана!» сопровождали его. «Я требую слова!» — воскликнул Робеспьер. «Нет!» — дружно ответил зал. Отказали и Леба, пытавшемуся помочь другу.
Третий раз был самый страшный; именно тогда Сен-Жюст снова поймал отчаянный взгляд Максимильена. Неподкупный потребовал слова в ответ на издевательства Вадье, мусолившего «дело Катрин Тео» и вызвавшего с места реплику Тальена: «Я требую, чтобы прения велись по существу дела!»
— О, я сумею вернуть прения к существу дела! — подхватывает Неподкупный, бросаясь к трибуне.
Тальен отталкивает его, изобличая «насилия тирана».
Робеспьер у подножия трибуны. Он окидывает взглядом монтаньяров; одни отворачиваются, другие остаются неподвижными. Тогда он обращается поочередно ко всем сторонам амфитеатра:
— Честные люди, к вам взываю я, а не к этим негодяям…
Ему смеются в глаза.
Держась за перила лестницы, ведущей к трибуне, Максимильен делает неожиданный рывок. Несколько рук, вцепившись в его одежду, стаскивают его вниз. Обращаясь к председателю, он кричит из последних сил:
— Заклинаю, председатель разбойников, дай мне говорить или убей меня!..
— Получишь слово в свой черед, — отвечает Тюрио, сменивший Колло в председательском кресле.
— Нет, нет, никакого слова! — вопят с мест.
Обессиленный, Робеспьер падает на ступеньку лестницы. По вискам струится пот. Схватившись за грудь, кашляет: он сорвал голос.
— Тебя душит кровь Дантона, — смеется Лежандр.
— Так, значит, за Дантона вы мстите мне… — хрипит Робеспьер. — Подлецы! Почему же вы не защищали его?..
Он поднимает голову и пристально смотрит на трибуну, туда, где по-прежнему стоит Сен-Жюст, такой же безмолвный и отрешенный. Глаза их встречаются. Они без слов понимают друг друга.
«Это все, — говорит взгляд Неподкупного. — Нам остается умереть».
«Да, это все, — без слов отвечает Сен-Жюст. — Ты убедился: сейчас мы бессильны что-либо изменить. И раз больше не осталось надежды, то умрем спокойно, с достоинством, ибо такими, и только такими, должны мы остаться в памяти потомков. Наши тела ведь можно терзать и убить; но никому не дано лишить нас иной, независимой жизни, что обеспечена нам в веках и на небесах. И поэтому будем спокойны и невозмутимы и останемся такими до самого последнего часа, тем более что час близок…»
Да, час близок. Тальен кого-то высматривает и подает знак.
Поднимается тот, кому был подан знак. Это никому не известный депутат, но имя его благодаря роли, взятой на себя в этот день, как и имя Герострата, останется в истории. Его имя Луше.
— Я предлагаю, — говорит он, — издать декрет об аресте Робеспьера.
В зале мертвая тишина. Она длится почти минуту. Потом раздаются аплодисменты, постепенно нарастающие и охватывающие зал.
Луше поддерживает столь же безвестный Лозо:
— Установлено, что Робеспьер был деспотом. В силу этого я требую обвинительного декрета!
Аргумент никому не кажется недостаточным или смешным. Отовсюду слышны крики: «Голосовать! Немедленно голосовать!»
Но прежде чем голосование состоится, вскакивает Огюстен.
— Я разделяю добродетели моего брата, — говорит он. — Пусть обвинительный декрет будет издан и против меня.
Он сам лезет в петлю! Максимильен не может этого допустить. Как подстреленная птица, он вновь начинает трепыхаться. Он испускает душераздирающие крики; он
поносит Собрание, председателя, врагов: он не хочет, чтобы младший брат умирал из-за него, ему должны дать слово для защиты Огюстена!..
— Нет, нет, нет, — скандирует зал, — Робеспьер-младший прав, пусть отвечает вместе с братом-злодеем!..
Бийо-Варенн боится, как бы не забыли о Кутоне:
— Ты хотел взойти на престол по трупам представителей народа!
— Это я-то хотел взойти на трон, — с улыбкой отвечает паралитик, показывая на свои ноги.
Но Сен-Жюст все еще не назван. Его спасение все еще в его руках. Выступи он сейчас, примкни к общему хору, отрекись — и он будет спасен!..
Идут томительные минуты. Конвент ждет. Говори же, говори, время еще не ушло!..
Но он все тот же, с той же презрительной улыбкой, словно отвергающий их, словно издевающийся над ними.
И вот наконец его время истекает.
Поднимается Фрерон, ближайший помощник Тальена:
— Граждане коллеги, сегодня родина и свобода выйдут из руин, на которые их обрекли злодеи. Здесь хотели образовать триумвират, напоминающий о кровавых проскрипциях Суллы. Люди, стремившиеся к этому, — Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст. Я требую голосования обвинительного декрета против них.
Вот теперь все: путь к отступлению отрезан.
Впрочем, голосованию опять мешают: юный депутат Леба рвется к опальным. Его пытаются удержать, но, оставляя клочья одежды в руках соседей, он бросается вперед с криком:
— Я не желаю разделять с вами позор этого декрета! Я требую своего ареста!
Бедный Филипп… Благородный друг, верный и наивный… Ты ведь мог уклониться, как уклонился Давид, не пришедший в Конвент сегодня. Мог, но не пожелал… Бедная Элиза…
Открытым голосованием депутаты принимают декрет об аресте Максимильена и Огюстена Робеспьеров, Кутона, Сен-Жюста и Леба. Снова грохочут рукоплескания.
— Граждане, — заключает Тюрио, — поздравляю вас, вы спасли родину. Это было святое восстание против тирании, — вы совершили его. Будьте уверены: это займет подобающее место на страницах истории!
— Да здравствует республика! — отвечает зал.
— Республика, — шепчет чуть слышно Робеспьер, — ее нет больше, она погибла… Наступает царство разбойников…
За эти пять часов он снова прожил жизнь.
А потом кошмар и раздвоенность исчезли. Появился автоматизм обреченности, когда все делаешь механически, подчиняясь чьей-то непреодолимой воле, заранее зная конец, приближаясь к нему с неотвратимой ясностью, и вместе с тем все еще продолжаешь существовать, когда мера времени теряет четкость, часы превращаются в секунды, а секунды в вечность.
И самое главное, чувствуя непреодолимую волю и безропотно подчиняясь ей, Сен-Жюст прекрасно понимал, что это отнюдь не воля сегодняшних победителей, всех этих колло, бийо и бареров, и даже не их временных хозяев — сиейсов, тальенов и фуше, что победа и тех и других эфемерна, мнима; он не сомневался, что все они в свою очередь точно пылинки будут увлечены и сметены ураганом истории и от них останется еще меньше, много меньше, чем от него; он был глубоко уверен в том, что правда жизни и правда будущего на его стороне гораздо больше, чем на их, что человечество в конечном итоге пойдет не путем Фуше и Тальена, а путем Робеспьера и Сен-Жюста, что другие люди когда-то сделают то, чего не сумел, несмотря на всю свою энергию, свой энтузиазм и убежденность, сделать он, что они, эти люди будущего, не совершат той ошибки, которую ныне совершили робеспьеристы…
Ошибка… Но в чем же она, эта ошибка?..
Нет, не маленькие промахи и стечения обстоятельств, не частные огрехи, вроде его самонадеянности накануне праздника верховного существа, неудачной речи Робеспьера или чрезмерной веры их обоих в магическую силу слова, а фундаментальная, основная ошибка, от которой погибло все…
Последние часы Сен-Жюст непрерывно думал об этом, стремясь во что бы то ни стало решить для себя навязчивый вопрос, мучивший его много больше, чем сама катастрофа и предчувствие близкой смерти. Это решение представлялось ему необыкновенно важным, поскольку оно определяло значимость его бытия, целесообразность бесчисленных жертв и неимоверных усилий, принесенных им и его друзьями на алтарь идеи, цену потоков крови, пролитых во имя ее воплощения.
Он думал об этом днем 9 термидора, после рокового заседания Конвента, отправленный в тюрьму заговорщиками, и вечером, освобожденный из тюрьмы в результате восстания, провозглашенного робеспьеристской ратушей.
Он думал об этом, находясь в повстанческой Коммуне рядом с обоими Робеспьерами, Кутоном и Леба, также освобожденными инсургентами, в течение ночи с 9 на 10 термидора, когда, казалось, чаши весов заколебались и кое у кого (но не у него!) мелькнула мысль о спасении и даже о победе.
Он думал об этом, когда все было кончено, когда отряды заговорщиков во главе с Леонаром Бурдоном вторглись в ратушу, когда Филипп Леба, не желая отдаваться живым, покончил жизнь самоубийством, когда Максимильен Робеспьер с простреленной челюстью упал к его ногам, в то время как Огюстен выбросился из окна, когда раненого Кутона швырнули с лестницы и он покатился, точно куль с мукой, когда жандармы преследовали и ловили инсургентов, как охотники травят дичь.
Он думал об этом и под утро, когда сидел за столом в одной из комнат Комитета общей безопасности, а на столе лежал, чуть вздрагивая, Максимильен, судорожно пытавшийся комком бумаги остановить кровь, сочившуюся из щеки, а вокруг хохотали, издевались, строили рожи, показывали пальцами на «тирана», в то время как в соседней комнате пировали Бийо, Колло, Вадье и вся свора, шумно поздравляя друг друга с победой.
Он думал об этом непрерывно, и его отсутствующий вид приводил в изумление врагов, и, быть может, именно поэтому они не измывались над ним, оставили его в покое и ни разу не нарушили его сосредоточенности и отрешенности.
И как было не изумляться?
Изумлялись не только враги, изумлялись случайные зрители.
Вот идет она, эта странная процессия. Они выходят из полумрака Дворца равенства на яркий свет дня, чудесного солнечного дня 10 термидора, их последнего дня, и сразу окунаются в несметную толпу любопытных.
Путь их лежит в Консьержери, где формально установят личность каждого и потом — ведь они вне закона — без дальнейших проволочек всех отправят на площадь Революции.
Впереди четверо несут в кресле Робеспьера. Грязные бинты стягивают бледное лицо Неподкупного; его голубой редингот, местами лиловый от крови, разодран во всю длину; он без башмаков, чулки сползли до лодыжек; глаза его полузакрыты, веки дергаются.
За ним плывут носилки Кутона. Бедный паралитик без сознания; весь изломанный, с пробитой головой, в платье, превратившемся в окровавленную тряпку, он тяжело дышит и по временам испускает стоны.
Потом появляется Дюма, с распухшим лицом, в своем заметном черном рединготе и рваной накидке, напоминающей сутану.
Пейян, идущий следом, как всегда аккуратен, хотя его серая одежда местами стала белой, а высокий полотняный галстук из белого превратился в серый.
Друг за другом выходят советники Коммуны, помятые, запыленные, в известке, — все они либо сопротивлялись, либо пытались ускользнуть, все испытали прикосновение рук жандармов, силу их кулаков, когда вырывались, падали, ползли по грязному полу.
И только один среди них выглядит совсем иначе.
Он в новом, прекрасно сшитом костюме цвета верблюжьей шерсти. Его белый галстук, тщательно завязанный, подпирает высокий ворот рубахи, на белом жилете ни соринки; сразу видно: уж его-то не коснулась ничья рука! Он идет одинокий, спокойный, задумчивый, с руками, скрещенными на груди, не ловя взглядов и не избегая их, молодой, красивый, холодный. И перед ним толпа невольно расступается и замолкает.
Путь проскрибированных не близок. У Нового моста носильщики Робеспьера и Кутона просят у жандармов разрешения отдохнуть. Кресло ставят против эспланады, на которой высится пьедестал от разрушенной статуи Генриха IV.
— Смотри, — сказал кто-то в толпе, — тиран созерцает останки своего собрата!..
Притихшая было толпа начинает оживать. На «тирана» сыплются потоки брани и насмешек. В первых рядах указывают пальцами на арестованных и узнают их одного за другим.
— Смотри, вот Пейян, тот самый, который хотел лишить нас жратвы!
— А этот тихоня — мэр Флерио!
— Видишь высокого, в сутане? Это Дюма из Революционного трибунала!
— Который всех посылал на гильотину? Пусть-ка нынче сам попробует, как чихают в корзину!..
— Гляди-ка, на носилках сам Кутон, первый помощник тирана, тот, что разъезжал в механическом кресле!
— А кто этот, в светлом костюме?
— В светлом? Нет, этого я не видывал.
— И я. Их поля ягодка, но уж больно лощеный какой-то.
— Ясное дело, хлыщ…
Эти слова обжигают Сен-Жюста. Они не знают его! Он жил и страдал ради них, ради них отказался от счастья и покоя, проводил ночи без сна и терпел голод, маялся на фронте, стремясь обеспечить им победу, маялся здесь, стремясь их накормить, а они не знают его! Для них он чужак, хлыщ… Но почему же? В чем его вина, в чем ошибка?..
Истина стала приоткрываться Сен-Жюсту, та истина, которую он тщетно искал все эти долгие часы. Но полностью открылась она позднее, уже после того, как он побывал в Консьержери, после того, как Фукье «опознал» их, а помощник палача срезал его локоны и широко раскроил ворот рубахи, дабы ничто не помешало силе безжалостного удара.
Истина полностью открылась ему, когда вместе с друзьями и товарищами, живыми и полумертвыми, он совершал свой последний путь — путь из тюрьмы к месту казни.
Телег было три, и на них разместили двадцать два человека..
В первой, рядом с безжизненным телом Огюстена, везли Анрио; лицо его разбито в кровь, глаз выкатился из орбиты.
На второй среди прочих находились Робеспьер и Сен-Жюст. Неподкупный сидел опустив голову, перехваченную бинтом. Антуан стоял со связанными за спиной руками, в рединготе, наброшенном на плечи.
На дне третьей телеги, под ногами других осужденных, валялся Кутон.
Сен-Жюст стоял и смотрел. Он вышел из оцепенения. Он жадно смотрел, словно стараясь вобрать в себя этот жаркий, солнечный день. Он смотрел, ибо хотел увидеть и понять все до конца.
Со времени праздника верховного существа на улицах Парижа не бывало такого количества людей. Мелькали сотни лиц, улыбающихся лиц, окна домов были широко раскрыты, и оттуда также выглядывали оживленные, довольные лица. Люди приветствовали и поздравляли друг друга, размахивали шляпами и платками, точно во время манифестации. К жертвам, которых ждал нож гильотины, ни у кого не чувствовалось ни малейшего проблеска жалости, наоборот, их жуткий вид повсюду возбуждал жестокий восторг. Лошади шли шагом и часто останавливались; стечение народа было такое, что до площади Революции добирались почти час.
У дома Дюпле остановились надолго.
Телегу, в которой везли Робеспьера и Сен-Жюста, окружили женщины. Они взялись за руки и принялись плясать. Они плясали и пели: «Станцуем карманьолу…»
Какой-то уличный мальчишка, намочив метлу в ведре мясника, кропил кровью запертые двери дома. И при этом притопывал и подпевал: «Станцуем карманьолу…»
А вокруг слышалось:
— Чтоб тебе сгинуть, тиран!
— Проклятый максимум! К черту его!..
И вдруг раздался одинокий выкрик:
— Кавалер Сен-Жюст!..
Антуан похолодел. Ему показалось, что это голос Демулена… Но нет, то ведь не мог быть голос Демулена. И вообще не было выкрика, то просто закричал его мозг, в котором с удивительной ясностью вспыхнула разгадка всего, над чем он так долго мучился, возник полный и исчерпывающий ответ о причине всех ошибок.
Кавалер Сен-Жюст… Да, что бы он ни делал, для них он останется кавалером, благородным. И в этом не их вина. Нет, народ никогда не виноват, народ не может быть виноватым уже потому, что он народ, а народ — это все, это наша держава, это соль нашей земли. Народ не может быть виноватым, виноватыми можем быть только мы — все те, над кем сейчас издевается и кого проклинает народ. Вот в чем разгадка.
Мы говорим о народе, постоянно выступаем от его лица и во имя его интересов, обещаем ему лучезарное будущее, но не смогли создать даже сносного настоящего; начав революцию во благо народа, ради победы над меньшинством, мы сами незаметно превратились в меньшинство, для которого интересы народа стали абстракцией; мы словно забыли о великих целях, что ставили перед собой, и пользовались народом, как простым орудием нашей междоусобной борьбы; и даже террор, начатый ради спасения народа, мы обратили в средство нашей самозащиты и зачастую направляли его против народа. Вся наша трагедия в том, что, стремясь действовать от лица обездоленных, мы, вопреки собственным желаниям, таскали каштаны из огня для других, для жадных и богатых, для тех, кто с нашей помощью оказался победителем и убивает нас сегодня, а народ, также не желая того, мы оттолкнули и сделали равнодушным к нашей судьбе. Вот в чем разгадка. Вот почему мы гибнем. И наверно, гибель наша столь же закономерна, как и революция. И потом, когда пройдет время, народ, который нас топчет сегодня, пожалеет о нас, ибо те, кто идет следом за нами, много хуже, чем мы, поскольку мы искренни и искренно заблуждались, а они лицемерны и душат народ с единственной целью — нажиться на его нужде. О нас еще пожалеют все эти бедняки, ныне пляшущие карманьолу, поскольку мы дали им хлеб, а те, что идут за нами, его отнимут. И наверное, пройдет еще много времени, прежде чем появятся люди более мудрые и дальновидные, которые продолжат наше дело, но учтут наши ошибки…
…Он думал обо всем этом до тех пор, покуда из устья улицы, по которой дребезжали телеги, не выглянула площадь Революции и он не увидел гипсовую статую Свободы, а рядом — страшную двуногую химеру, занимающую середину площади, неутолимо жадную химеру уничтожения, нетерпеливо алчущую своей дневной порции.
И тогда он перестал думать; он только смотрел и ждал.
………………………
Несколько месяцев спустя на второй этаж дома № 3 по улице Комартен поднялась бедно одетая женщина с полугодовалым ребенком на руках. Из-под темной косынки, небрежно прикрывавшей ее голову, проглядывали пряди каштановых с проседью волос, лицо, хранившее следы былой привлекательности, кое-где прорезали морщины, руки были красными и загрубевшими от тяжелой физической работы. В этой строгой, молчаливой, преждевременно постаревшей женщине сегодня мало кто узнал бы хохотушку Элизу, младшую дочь столяра Дюпле.
Сен-Жюст недаром жалел Элизу, вспоминая о ней в последние часы жизни. На долю бедной женщины выпали тяжкие испытания, которые она перенесла со стоицизмом, достойным героических времен.
9 термидора она весь день находилась в нервном ожидании. Оставив младенца матери, Элиза бродила по улицам, подходила к Конвенту, жадно вслушивалась в разговоры зевак. Поэтому она сразу узнала о катастрофе, о том, что Робеспьер и его друзья арестованы и развезены по тюрьмам; она сумела выяснить даже куда поместили ее супруга. Не теряя времени, Элиза погрузила на тележку походную кровать, матрац, белье и отправилась по адресу, надеясь создать Филиппу возможные удобства в тюрьме. Подойдя, молодая женщина увидела толпу: делегаты восставшей Коммуны явились освободить Леба. Вскоре он вышел, бледный, расстроенный. Увидев Элизу, повеселел; взявшись за руки, в сопровождении посланцев Коммуны они направились на Гревскую площадь, Элизе было и радостно, и горько: она снова с мужем и снова готовилась его потерять. По всему было видно, что Филипп не верил в успех восстания; он повторял ей: «Живи, дорогая, ради нашего сына. Береги его. Воспитай из него настоящего гражданина». Но вот они пришли. Последний поцелуй; он вырвался из ее объятий и исчез в ратуше. Она не верила, что это все. Она еще долго стояла на площади среди пушек и канониров, слушала разговоры, смотрела на яркое освещение ратуши и ждала, что он выйдет. Но он не вышел. Вместо него появился Анрио, который принялся уговаривать усталых артиллеристов. Уговоры не помогли: на глазах Элизы солдаты расходились, покидая посты. Решив, что до утра ничего нового не узнает, покинула площадь и она. На пути домой ей встретились эмиссары Конвента, читавшие вслух декрет, объявлявший инсургентов вне закона. Элиза поняла, что ее Филипп погиб. И все погибли… Ночь она провела без сна, а наутро узнала, что муж ее прострелил себе голову, чем избежал казни, ожидавшей остальных. А потом начались аресты. Арестовали отца, мать, брата; дня через два добрались до нее и Элеоноры…
…Дальше начинался кошмар, в котором все сливалось. Сестер и крошку Филиппа перебрасывали из тюрьмы в тюрьму, но в новой камере их ожидали та же грязь и те же насекомые. Им подсовывали какие-то бумаги, но они не подписывали ничего, и поэтому казалось — мучениям их не будет конца. По ночам Элиза спускалась на тюремный двор выстирать пеленки, которые потом сушила под матрацем. Жили одними новостями с воли. Но новости были неутешительными. Все близкие либо погибли, либо предали. Предателями оказались Добиньи и Лежен, вымолившие прощение грязной клеветой на Робеспьера и Сен-Жюста. Не лучше повела себя и Шарлотта, добившаяся позорной пенсии от победителей. Зато вся семья Дюпле держалась мужественно; мужество это даже стоило жизни матери Элеоноры и Элизы: гражданка Дюпле была задушена в тюрьме. В тюрьме погиб и верный Тюилье, а Гато, письменно воздавший хвалу Сен-Жюсту, ждал казни. Казни сыпались как из рога изобилия; если когда-то вожди заговора вопили о «милосердии», то теперь в их руках гильотина работала без отдыха: сотни людей ежедневно отдавались в руки палача, а тех, кто не погибал по приговору Трибунала, добивали банды «золотой молодежи», бесчинствовавшие по всей стране…
В конце концов, не имея оснований для обвинения, сестер все же выпустили. Выйдя на волю, Элиза встретилась кое с кем из друзей, многое узнала, еще о большем догадалась. Сен-Жюст недаром подозревал американское посольство; обстоятельства не позволили ему довести расследование до конца, но успей он это сделать… Теперь не было секретом, что американские «друзья» приложили руку и к подготовке, и к проведению термидорианского переворота: мистер Монро,
[44] сменивший Морриса, оказал помощь врагам Робеспьера и Сен-Жюста, недаром Барер кричал нынче на всех перекрестках о «возрождении» Франции с помощью Америки! Это «возрождение» стало могилой для революции. Энергичные «батцы»
[45] на иностранное золото содействовали полной победе плутократии, которой некогда так судорожно противились робеспьеристы. Сиейсы, фуше, тальены, баррасы торжествовали. Роскошь и нищета, как и при старом порядке, вновь делили все общество на две неравные части; на долю Элизы, как и всех ее близких, выпала нищета. Верная Элеонора присматривала за домом и ребенком, Элиза стала прачкой; целые дни стирая и прополаскивая белье на барках вдоль Сены, она зарабатывала жалкие гроши. Но невзгоды жизни ее не тревожили; она жила другим, внутренним миром, миром воспоминаний. И — странное дело! Чем дальше шло время, тем отчетливее воскресал герой ее девичьих грез — Антуан Сен-Жюст. Как ни любила Элиза Филиппа, как ни страдала, переживая его ужасную смерть, образ его постепенно таял. Подобно тому как Элеонора на всю жизнь останется «невестой Робеспьера», так и она, никому не говоря об этом, станет чувствовать себя «невестой Сен-Жюста». Он постоянно являлся к ней в сновидениях, она думала о нем, работая на барках, этот человек обладал в отношении ее какой-то особой магической силой, оставаясь вечно живым. Она вдруг вспомнила, что незадолго до переворота квартирная хозяйка Сен-Жюста писала его портрет… Именно это обстоятельство, после многих раздумий и колебаний, и привело Элизу на улицу Комартен…
…Полина встретила ее сдержанно и даже не предложила войти. Скромность Элизы, ее достоинство и улыбка малыша, тянувшего ручонки к художнице, смягчили ее; но, выслушав просьбу посетительницы, она решительно отказала.
— Это невозможно. Да и кем, собственно, вы ему приходитесь?
Элиза взяла грех на душу:
— Я невеста покойного. А это… Это его сын…
Художница вспыхнула. Взяв на руки ребенка, она долго и внимательно глядела на него. Потом вздохнула.
— Ваши права большие, чем мои. Я согласна отдать вам портрет. Не даром, разумеется. Я совершенно разорена…
— Сколько же вы хотите?
— Десять луидоров.
Элиза побледнела. Она почувствовала, что почва уходит из-под ног. Художнице стало жаль ее.
— Ну хорошо. Я понимаю, у вас нет денег. Может быть, в таком случае вы могли бы предложить мне что-либо другое?
Элизу осенило: ведь удалось спасти от секвестра сундук, в котором лежит ее подвенечное платье и одежда Филиппа…
После коротких переговоров обмен состоялся…
…Это была пастель, выполненная с тщательностью, достойной века Буше и Фрагонара. Юный депутат Конвента, изображенный во весь рост, стоял в несколько напряженной позе, опершись рукой о край стола. На нем был костюм модного покроя. Небесно-голубой с золотыми пуговицами камзол распахнулся на груди. В петлице жилета ярким пятном алела гвоздика. Высокий батистовый галстук, закрывая шею, доходил до подбородка. Голова, напоминающая скульптурный портрет Антиноя, была гордо откинута назад; длинные, чуть вьющиеся волосы темными волнами спадали на воротник камзола. Совершенно необычным, не соответствующим всему остальному казалось выражение лица. Большие синие глаза подернула пелена глубокой грусти; правый угол рта был чуть приподнят, создавая подобие улыбки, но улыбки меланхолической, горькой: юноша словно сожалел о том порочном мире, который ему надлежало очистить от скверны, и о себе самом, взвалившем на свои слабые плечи столь непомерный груз…
…Этот портрет будет с ней всю ее жизнь, а жизнь предстояла еще долгая. Поместив его на стене против света и сидя в кресле у окна, Элиза часами будет рассматривать дорогой образ любимого.
А потом портрет перейдет к Человечеству.
И ныне, глядя на него, нельзя еще раз не вспомнить слова Сен-Жюста — его последние слова, записанные в заветном блокноте:
«Я презираю прах, из которого создан… Это несчастное тело можно терзать и убить. Но никому не дано лишить меня иной, независимой жизни, что обеспечена мне в веках и на небесах…»
Приложение
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на II год Республики
Сезоны и месяцы
Осень
Вандемьер (22 сентября — 21 октября) — месяц сбора винограда
Брюмер (22 октября — 20 ноября) — месяц туманов
Фример (21 ноября — 20 декабря) — месяц изморози
Зима
Нивоз (21 декабря — 19 января) — месяц снега
Плювиоз (20 января — 18 февраля) — месяц дождей
Вантоз (19 февраля — 20 марта) — месяц ветров
Весна
Жерминаль (21 марта — 19 апреля) — месяц прорастания семян
Флореаль (20 апреля — 19 мая) — месяц цветов
Прериаль (20 мая — 18 июня) — месяц лугов
Лето
Мессидор (19 июня — 18 июля) — месяц жатвы
Термидор (19 июля — 17 августа) — месяц жары
Фрюктидор (18 августа — 16 сентября) — месяц плодов

Примечания
1
Пизистрат — афинский тиран (560–527 гг. до н. э.).
(обратно)
2
Гора («Монтань») — верхние ряды амфитеатра Конвента; партией Горы (монтаньярами) называли демократов-якобинцев, занимавших эти ряды.
(обратно)
3
Жиронда (от департамента Жиронда) — группа лидеров торговой и промышленной буржуазии юга и запада Франции, поначалу преобладавшая в Конвенте.
(обратно)
4
17 июля 1791 года по приказу Учредительного собрания мэр Байи расстрелял на Марсовом поле парижан, подписавших петицию о низложении Людовика XVI. После этого начались преследования левых политических деятелей.
(обратно)
5
В ночь на 10 августа 1792 года восставшие парижане взяли штурмом королевский дворец; при этом погибло много повстанцев.
(обратно)
6
Округа революционного Парижа.
(обратно)
7
Так называли депутатов, не определивших свою партийную принадлежность и занявших партер Конвента.
(обратно)
8
Так называли стихийную расправу народа с роялистами, заключенными в парижские тюрьмы в дни острой опасности иностранного вторжения (2–5 сентября 1792 г.).
(обратно)
9
«Черными» называли аристократов, за то что с начала революции многие из них носили черные (траурные) костюмы.
(обратно)
10
Марием в честь римского полководца Гая Мария (ок. 157 — 80 гг. до н. э.) называли Дантона в кругу друзей.
(обратно)
11
Дюмурье арестовал их 2 апреля и выдал неприятелю, сам же после неудачной попытки поднять войска бежал 5 апреля к австрийцам.
(обратно)
12
Депутат Конвента Мишель Лепельтье был убит фанатиком-роялистом 20 января 1793 года за то, что подал вотум за казнь короля.
(обратно)
13
Этот закон под нажимом широких народных масс столицы был принят еще 4 мая, но фактически не соблюдался.
(обратно)
14
Давид написал посмертный портрет Мишеля Лепельтье, депутата Конвента, убитого фанатиком Пари накануне казни Людовика XVI.
(обратно)
15
Проблема контингентов в какой-то мере была решена декретом о массовом наборе от 23 августа 1793 года, призвавшим в армию два миллиона человек.
(обратно)
16
5 октября 1789 года состоялся поход парижских женщин на Версаль с целью сорвать контрреволюционные приготовления двора.
(обратно)
17
«Десять мужей» — так называли в Древнем Риме специальную комиссию, избранную для составления законов.
(обратно)
18
Конвент перенес свои заседания из Тюильрийского манежа во дворец в начале мая 1793 года.
(обратно)
19
Так назывались местные комитеты, существовавшие в каждой секции Парижа и набиравшиеся из числа санкюлотов.
(обратно)
20
Кутон был послан в Ньевр, затем руководил взятием Лиона. Лион был освобожден 9 октября.
(обратно)
21
Мессалина — жена римского императора Клавдия, славившаяся развращенностью; Агриппина — его вторая жена, бывшая в кровосмесительной связи со своим сыном Нероном.
(обратно)
22
То есть 17 октября. Республиканский календарь был принят Конвентом 5 октября 1793 года; новые названия месяцев были официально приняты по докладу Фабра д’Эглантина 24 октября и вступили в силу 5 ноября (см. приложение в конце книги).
(обратно)
23
Северные Вогезы.
(обратно)
24
Сторонники генерала Лафайета, изменившего революции и эмигрировавшего после падения монархии.
(обратно)
25
Декрет Конвента от 18 брюмера II года официально заменил обращение на «вы» обращением на «ты».
(обратно)
26
Фрей — свободный
(немецк.).
(обратно)
27
Иллюминаты — тайная немецкая организация, близкая к масонам.
(обратно)
28
Гош был арестован после конца кампании в Эльзасе, когда он находился уже в Итальянской армии. Ордер на арест был подписан Сен-Жюстом и Карно.
(обратно)
29
В дальнейшем по ходатайству Сен-Жюста Пишегрю был назначен командующим Северной и Арденнской армиями.
(обратно)
30
Председатель избирался сроком на две недели.
(обратно)
31
Не конституция, а учреждение
(латинск.)
(обратно)
32
В отличие от бывших дворян, носивших короткие штаны (кюлоты).
(обратно)
33
Казнены были девятнадцать; двадцатый, полицейский агент Лабуро, был оправдан.
(обратно)
34
«До каких пор будешь ты, наконец, Катилина, злоупотреблять нашим терпением?»
(латинск.) — Первая речь Цицерона против Катилины.
(обратно)
35
Считалось, Демулен первым призвал народ 14 июля 1789 года к походу на Бастилию.
(обратно)
36
Дантон сыграл одну из ведущих ролей в восстании 10 августа 1792 года, приведшем к свержению монархии.
(обратно)
37
Несколько дней спустя он покончил жизнь самоубийством в тюрьме.
(обратно)
38
Марсово поле.
(обратно)
39
Андре Шенье.
(обратно)
40
Парк Тюильри.
(обратно)
41
Военная школа.
(обратно)
42
В Древнем Риме с Тарпейской скалы сбрасывали преступников.
(обратно)
43
Красные каблуки носили аристократы во времена Людовика XIV.
(обратно)
44
Будущий президент США (1817–1825).
(обратно)
45
Дальнейшая история псевдо-Батца вследствие устранения Сен-Жюста и других, кто занимался расследованием его дела, осталась нераскрытой. Что же касается Батца с улицы Вивьенн, то он продолжал свои авантюры при Директории и при Наполеоне; в эпоху Реставрации он был уничтожен своими хозяевами (1822 г.), опасавшимися разоблачения государственных тайн.
(обратно)
Оглавление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Приложение
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на II год Республики
*** Примечания ***


 Он не стал задерживаться у Якобинцев. Едва Колло, с трудом протиснувшийся к трибуне, возвысил голос, а вокруг, словно по команде, начались шиканье и свист, он встал и вышел: жаль было драгоценного времени. Он не верил, чтобы происшедшее в Клубе могло изменить ситуацию; все шло из рук вон плохо. Сколько ошибок за такой короткий срок! И даже за сегодняшний день. Эта речь Неподкупного… И эта угроза, повисшая словно нож гильотины. Она вызвала страх, а где страх, там и предательство, тем более что каждый чувствует свою вину…
Молодой человек ускорил шаг. Нет, он не собирался пасовать. Теперь, когда враг разбит, когда успокоена Вандея и сброшена со счетов парламентская контрреволюция, было бы слишком глупо потерять все из-за нескольких неточных ходов. Что испорчено речью, речью же можно и поправить. Он произнесет ее завтра утром в Конвенте. Он реабилитирует Неподкупного, рассеет страхи, предложит оправдаться виновным — а их будет названо совсем немного — и успокоит всех. Довольно заговоров и крови. Революция должна остаться незапятнанной! Сила патриотов — в единстве, и это единство будет достигнуто.
На Карусельной площади было темно, и Дворец равенства выделялся на фоне сизого неба черным силуэтом. Юноша обогнул павильон Флоры и по бывшей лестнице королевы поднялся на второй этаж. Часы пробили одиннадцать. Кругом было мрачно и безлюдно. Пройдя коридор, он толкнул дверь и очутился в большом зале с колоннами. Здесь заседал великий Комитет общественного спасения — святая святых правительства.
Центральную часть зала занимал большой стол, покрытый зеленым сукном. Три бронзовых канделябра едва освещали его поверхность. Люстры были погашены: члены правительства берегли свечи. Поодаль стояли меньшие столы и раскладная кровать; на ней неподвижно лежал человек, уткнувшийся головой в подушку. Кроме него в комнате было пятеро; четверо сидели за большим столом, пятый прохаживался и что-то жевал. Молодой человек сухо поздоровался, сел к отдельному столу и принялся за работу. Слонявшийся по комнате внезапно остановился, подозрительно посмотрел на пишущего и спросил:
— Послушай, Сен-Жюст, ты по какому поводу мараешь бумагу?
Следивший за ним черноволосый и смуглый прибавил:
— Ленде прав. Поведай-ка, что ты так углубленно сочиняешь?
Сен-Жюст поднял глаза.
— Я сочиняю речь, Барер, которую завтра прочту в Конвенте.
— Речь? — удивился сосед Барера. — Это вместо предложенного тебе доклада? И на какой предмет, хотелось бы знать?
— На предмет установления мира и согласия в Комитете, Карно. На предмет успокоения всех вас, дорогие коллеги.
— Так мы тебе и поверили, — хихикнул Барер. — И ты можешь поклясться, что это не новое обвинение? Что ты не подыгрываешь Пизистрату,[1] желающему всех нас отправить на гильотину?
При слове «Пизистрат» лежавший на кровати вздрогнул.
— Клясться ни в чем не собираюсь, — буркнул Сен-Жюст, не отрываясь от дела. — Но если желаете, готов прочесть вам речь до вынесения ее в Конвент.
Члены Комитета переглянулись.
— Это другой разговор, — пробасил Ленде и снова взялся за черствую корку.
Опять все стихло.
Он писал и писал. Мысли лились сплошным потоком, и перо едва поспевало за ними. Около полуночи были готовы восемнадцать страниц, и, отправив их к Тюилье для переписки набело, Сен-Жюст двинулся дальше. Но вдруг дверь распахнулась, и появился Колло д’Эрбуа, ободранный и грязный; он возвращался из Клуба.
Окинув вошедшего насмешливым взглядом, Сен-Жюст спросил:
— Что нового у Якобинцев?
На момент Колло застыл от изумления. Затем, точно бык, раздразненный мулетой, с ревом бросился на молодого человека:
— Ты меня спрашиваешь об этом, ты?.. О, подлец, проклятый лицемер, кладезь остроумных изречений!..
Сен-Жюст успел вскочить и схватил Колло за руки. Тот вырывался и орал, словно бешеный.
Человек, лежавший на кровати, неожиданно поднял голову. Это оказался Бийо-Варенн, раньше Колло ушедший от Якобинцев. Правый глаз Бийо совершенно заплыл.
— Колло, что ты церемонишься с этим мерзавцем, — прохрипел Бийо. — Дай ему так, чтобы его скрючило!..
Но остальные решили, что пора вмешаться. Ленде первым бросился разнимать. Ему помогли Карно и Приер. Бийо снова уткнулся в подушку. Дерущихся растащили в разные стороны.
Колло плюхнулся на стул.
— Вы негодяи, — вопил он, — ты, твой хозяин и ваш безногий выродок! Вы хотите погубить родину, но ваши козни раскрыты!..
Хитрый Барер старался его успокоить.
— Ты прав, коллега, — сказал он и, обращаясь к Сен-Жюсту, добавил: — Я знаю, вы хотели бы разделить республику между ребенком, уродом и чудовищем. Я лично не допустил бы вас управлять даже птичником!
Сен-Жюст уже снова невозмутимо писал.
Колло не мог успокоиться. Он долго смотрел на своего врага, потом, видя, что тот не обращает на это внимания, прорычал:
— Ты вечно шпионишь за нами! Я уверен, что и сегодня твои карманы набиты доносами!
Не говоря ни слова, Сен-Жюст выложил на стол содержимое своих карманов и продолжал писать. Его оставили в покое.
Около часу пришел Лекуантр. Он предложил арестовать начальника национальной гвардии и мэра. Сен-Жюст, оторвавшись от бумаги, резко возразил. Завязался спор…
…В пять утра, сложив исписанные листы, он поднялся.
— Стой! — крикнул Барер, — Ты обещал прочитать свою мазню!
— Для этого моя мазня должна быть переписана, — произнес Сен-Жюст. Однако про себя он отменил первоначальное решение: возмущенный увиденным и услышанным, он отказался от мысли читать речь в Комитете и решил нести ее сразу в Конвент.
Он не стал задерживаться у Якобинцев. Едва Колло, с трудом протиснувшийся к трибуне, возвысил голос, а вокруг, словно по команде, начались шиканье и свист, он встал и вышел: жаль было драгоценного времени. Он не верил, чтобы происшедшее в Клубе могло изменить ситуацию; все шло из рук вон плохо. Сколько ошибок за такой короткий срок! И даже за сегодняшний день. Эта речь Неподкупного… И эта угроза, повисшая словно нож гильотины. Она вызвала страх, а где страх, там и предательство, тем более что каждый чувствует свою вину…
Молодой человек ускорил шаг. Нет, он не собирался пасовать. Теперь, когда враг разбит, когда успокоена Вандея и сброшена со счетов парламентская контрреволюция, было бы слишком глупо потерять все из-за нескольких неточных ходов. Что испорчено речью, речью же можно и поправить. Он произнесет ее завтра утром в Конвенте. Он реабилитирует Неподкупного, рассеет страхи, предложит оправдаться виновным — а их будет названо совсем немного — и успокоит всех. Довольно заговоров и крови. Революция должна остаться незапятнанной! Сила патриотов — в единстве, и это единство будет достигнуто.
На Карусельной площади было темно, и Дворец равенства выделялся на фоне сизого неба черным силуэтом. Юноша обогнул павильон Флоры и по бывшей лестнице королевы поднялся на второй этаж. Часы пробили одиннадцать. Кругом было мрачно и безлюдно. Пройдя коридор, он толкнул дверь и очутился в большом зале с колоннами. Здесь заседал великий Комитет общественного спасения — святая святых правительства.
Центральную часть зала занимал большой стол, покрытый зеленым сукном. Три бронзовых канделябра едва освещали его поверхность. Люстры были погашены: члены правительства берегли свечи. Поодаль стояли меньшие столы и раскладная кровать; на ней неподвижно лежал человек, уткнувшийся головой в подушку. Кроме него в комнате было пятеро; четверо сидели за большим столом, пятый прохаживался и что-то жевал. Молодой человек сухо поздоровался, сел к отдельному столу и принялся за работу. Слонявшийся по комнате внезапно остановился, подозрительно посмотрел на пишущего и спросил:
— Послушай, Сен-Жюст, ты по какому поводу мараешь бумагу?
Следивший за ним черноволосый и смуглый прибавил:
— Ленде прав. Поведай-ка, что ты так углубленно сочиняешь?
Сен-Жюст поднял глаза.
— Я сочиняю речь, Барер, которую завтра прочту в Конвенте.
— Речь? — удивился сосед Барера. — Это вместо предложенного тебе доклада? И на какой предмет, хотелось бы знать?
— На предмет установления мира и согласия в Комитете, Карно. На предмет успокоения всех вас, дорогие коллеги.
— Так мы тебе и поверили, — хихикнул Барер. — И ты можешь поклясться, что это не новое обвинение? Что ты не подыгрываешь Пизистрату,[1] желающему всех нас отправить на гильотину?
При слове «Пизистрат» лежавший на кровати вздрогнул.
— Клясться ни в чем не собираюсь, — буркнул Сен-Жюст, не отрываясь от дела. — Но если желаете, готов прочесть вам речь до вынесения ее в Конвент.
Члены Комитета переглянулись.
— Это другой разговор, — пробасил Ленде и снова взялся за черствую корку.
Опять все стихло.
Он писал и писал. Мысли лились сплошным потоком, и перо едва поспевало за ними. Около полуночи были готовы восемнадцать страниц, и, отправив их к Тюилье для переписки набело, Сен-Жюст двинулся дальше. Но вдруг дверь распахнулась, и появился Колло д’Эрбуа, ободранный и грязный; он возвращался из Клуба.
Окинув вошедшего насмешливым взглядом, Сен-Жюст спросил:
— Что нового у Якобинцев?
На момент Колло застыл от изумления. Затем, точно бык, раздразненный мулетой, с ревом бросился на молодого человека:
— Ты меня спрашиваешь об этом, ты?.. О, подлец, проклятый лицемер, кладезь остроумных изречений!..
Сен-Жюст успел вскочить и схватил Колло за руки. Тот вырывался и орал, словно бешеный.
Человек, лежавший на кровати, неожиданно поднял голову. Это оказался Бийо-Варенн, раньше Колло ушедший от Якобинцев. Правый глаз Бийо совершенно заплыл.
— Колло, что ты церемонишься с этим мерзавцем, — прохрипел Бийо. — Дай ему так, чтобы его скрючило!..
Но остальные решили, что пора вмешаться. Ленде первым бросился разнимать. Ему помогли Карно и Приер. Бийо снова уткнулся в подушку. Дерущихся растащили в разные стороны.
Колло плюхнулся на стул.
— Вы негодяи, — вопил он, — ты, твой хозяин и ваш безногий выродок! Вы хотите погубить родину, но ваши козни раскрыты!..
Хитрый Барер старался его успокоить.
— Ты прав, коллега, — сказал он и, обращаясь к Сен-Жюсту, добавил: — Я знаю, вы хотели бы разделить республику между ребенком, уродом и чудовищем. Я лично не допустил бы вас управлять даже птичником!
Сен-Жюст уже снова невозмутимо писал.
Колло не мог успокоиться. Он долго смотрел на своего врага, потом, видя, что тот не обращает на это внимания, прорычал:
— Ты вечно шпионишь за нами! Я уверен, что и сегодня твои карманы набиты доносами!
Не говоря ни слова, Сен-Жюст выложил на стол содержимое своих карманов и продолжал писать. Его оставили в покое.
Около часу пришел Лекуантр. Он предложил арестовать начальника национальной гвардии и мэра. Сен-Жюст, оторвавшись от бумаги, резко возразил. Завязался спор…
…В пять утра, сложив исписанные листы, он поднялся.
— Стой! — крикнул Барер, — Ты обещал прочитать свою мазню!
— Для этого моя мазня должна быть переписана, — произнес Сен-Жюст. Однако про себя он отменил первоначальное решение: возмущенный увиденным и услышанным, он отказался от мысли читать речь в Комитете и решил нести ее сразу в Конвент.